|
|
Александр Федоров. Польский кинематограф в зеркале советской и российской кинокритикиВведение. Пик интереса к польскому кино в СССР пришелся на 1960-е годы. И это вполне объяснимо: во-первых, в отличие от ситуации 1920-х — 1930-х годов, дружба и сотрудничество с Польшей в это время активно поддерживались на государственном уровне; во-вторых, на эти годы (со второй половины 1950-х до середины 1960-х) пришелся взлет так называемой «польской киношколы»; в-третьих, именно польские фильмы составляли тогда весомую часть зарубежного проката в советских кинотеатрах. 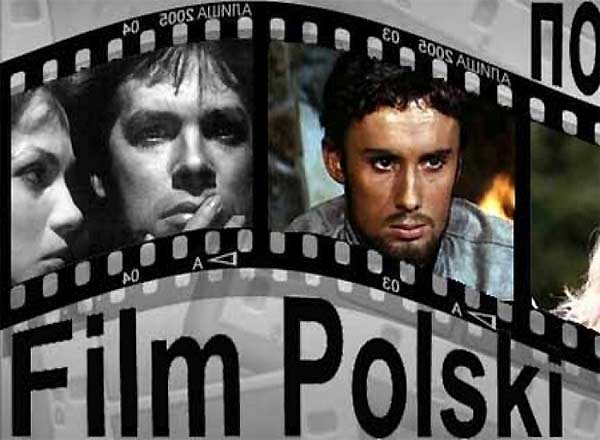 Отсюда понятно, почему именно в 1960-х в нашей стране были опубликованы не только десятки статей, но и пять книг о польском кино [Маркулан, 1967; Рубанова, 1966; Соболев, 1965; 1967; Черненко, 1965]. С возникновением в 1970-х кинематографа «морального беспокойства» польских фильмов в советском прокате становилось все меньше, соответственно, уменьшилось и число публикаций. К примеру, книги И.И. Рубановой о документальном кино Польши, о творчестве Згибнева Цыбульского (1927-1967) и Анджея Вайды из-за препонов цензуры так и не добрались до читателей [см. об этом: Рубанова, 2015]. Еще сильнее ухудшилась ситуация в связи с попыткой польского движения «Солидарность» выступить против коммунистического режима: о многих польских кинематографистах (включая поддержавшего «Солидарность» А. Вайду) нельзя было упоминать в советской прессе вплоть до перестроечных времен… Короткая волна оживления советской кинополонистики пришлась на конец 1980-х — начало 1990-х годов. Именно в это время они смогли писать, наконец, не опасаясь цензурных запретов и правок. Но… распад СССР практически сразу повлек за собой ликвидацию сложившейся за многие десятилетия системы ежемесячного проката фильмов из стран Восточной Европы: на российские кино/видеоэкраны хлынул поток американской продукции, практически смывший в 1990-е годы не только польское, но и российское кино. В результате не столь уж многочисленные поклонники польского киноискусства могли теперь увидеть его только на неделях польского кино, по спутниковому телевидению или в интернете. А со смертью Р.П. Соболева (1926-1991) и М.М. Черненко (1931-2004) о польском кино в России стали писать все реже и реже (среди последовательно пишущих о польском кино киноведов отмечу И.И. Рубанову, Д.Г. Вирена, Т.Н. Елисееву, О.В. Рахаеву). О чем было можно, а о чем нельзя?И.И. Рубанова, один из лучших знатоков польского кино, со знанием дела отметила, что в Польше после 1956 года «территория разрешенной свободы была просторнее, чем у нас. Очень жестко регулировались содержание, отдельные темы (например, отношения с великим восточным соседом, как актуальные, так и исторические), но поэтика, стилистические решения отдавались на усмотрение художника. … в Польше с цензурой было легче, цензоров не интересовала, например, стилистика, форма, язык, который у нас долгое время был нормативным. … Все, что касалось формы, стиля, польская цензура не трогала, она за этим не охотилась» [Рубанова, 2000, 2015]. С И.И. Рубановой согласен и Д.Г. Вирен: «Базовым различием советской и польской цензурных систем было как раз то, что в формальном плане польским кинематографистам было позволено очень многое, лишь бы не было идеологической крамолы и «неудобных» тем (тогда как в послевоенном советском кино «чистые» эксперименты с формой, мягко говоря, не приветствовались)» [Вирен, 2015, с.10]. Более того, Д.Г. Вирен считает (и я склонен с ним согласиться), что «Польша, с точки зрения цензуры, была, возможно, наиболее либеральной (насколько это слово вообще применимо в данном контексте) страной (среди социалистических государств — А.Ф.) для художников, и не только кинематографистов» [Вирен, 2013, с.98]. Вместе с тем, в этой связи О.В. Рахаева пишет, что до 1956 года власти Польши «довольно остро реагировали на отсутствие советских персонажей в кино: фильм Леонарда Бучковского «Запрещенные песенки» («Zakazane piosenki», 1946) был принят только после поправок (в том числе показа ведущей роли советских солдат в освобождении Варшавы). Чтобы избежать упреков в неверной трактовке событий, в фильме Ванды Якубовской «Последний этап» («Ostatni etap», 1947) в концлагере среди главных героинь действовали сразу две русские. Другим примером может служить фильм «Непокоренный город» («Miasto nieujarzmione», 1950, реж. Ежи Зажицкий), который после длительных перипетий со сценарием все-таки показывал попытки советских солдат установить из варшавской Праги связь с восставшей Варшавой на другом берегу. Иногда идеологическую правильность гарантировало личное участие советских товарищей: консультантом фильма «Солдат победы» («Żołnierz zwycięstwa», 1953, реж. Ванда Якубовская) был сам маршал Рокоссовский» [Рахаева, 2012, с.227]. И только после десталинизации, принесенной хрущевской оттепелью, «польское кино оказалось в исключительных для творчества условиях полусвободы. Навязанные сверху искусственные рамки всегда ведут к благородному усложнению формы, а государственный пресс обеспечивает сложную форму публикой, алчущей заведомого подтекста. В то же время дешифровка художественных шарад не должна приводить автора к сиюминутному аутодафе (что непременно ждало русских режиссеров, случись им хотя бы задумать истории, которые пусть и не без труда, но проталкивали на экран поляки; так, например, возникло «кино морального беспокойства» [Горелов, 2011]. В частности, эту «полусвободу» хорошо иллюстрирует рассказ И.И. Рубановой, о том, как в 1958 году по отношению к «Пеплу и алмазу» в Польше «были приняты превентивные меры: в стране картину выпустили на экраны, но показывать за границей запретили. Однако тогдашний начальник кинематографии Ежи Левинский, гордый тем, что под его чутким и гибким руководством польское кино сумело создать такой превосходный фильм, тайком вывез его на Венецианский фестиваль, чтобы без шуму показать на одном из внеконкурсных показов. Без шуму не получилось. Левинского сняли, а фильм начал шествие по экранам мира и сегодня считается украшением столетней истории мирового кино. Власти тем самым была навязана роль великодушного мецената, весьма, надо сказать, для нее обременительная» [Рубанова, 2000]. Особенности советской киноцензуры были иными: как в кино, так и в кинокритике нельзя было:
Такого рода запреты в СССР просуществовали вплоть до начала «перестройки», хотя временами их и можно было чуть-чуть обойти (ну, например, написать что-то положительное о мистическом фильме Я. Маевского «Локис»). Опасаясь ревизионизма…Пожалуй, первой заметной советской киноведческой работой о польском кино стала статья Р.Н. Юренева (1912-2002) с характерным названием «О влиянии ревизионизма на киноискусство Польши» [Юренев, 1959]. В ней, несмотря на наступившую политическую «оттепель», отчетливо проявились жесткие идеологические тенденции сталинских времен. Анализируя ключевые польские фильмы второй половины 1950-х, Р.Н. Юренев в целом вынес им весьма строгий приговор. К примеру, сначала он упрекнул Анджея Вайду — режиссера самого знаменитого произведения «польской киношколы» «Пепел и алмаз» (1958) — в том, что «нет в фильме гнева против тех, кто заставлял польских юношей стрелять в безоружных людей, озабоченных только счастливым будущим своего народа, только перспективами восстановления и строительства. Нет гнева против самих юношей, обрисованных с чувством глубочайшей симпатии и душераздирающей жалости» [Юренев, 1959, с.96]. А потом задал риторический, идеологически выдержанный вопрос: «Читал ли Вайда ленинские статьи о партийности литературы, в которых с побеждающей силой доказано, что, пытаясь стать вне классовой борьбы, художник неминуемо скатывается в болото реакции?» [Юренев, 1959, с.97]. Чуть теплее Р.Н. Юренев был настроен к военной драме А. Вайды «Канал» (1957), так как «талантливо, искренне, сильно решил молодой постановщик многие его эпизоды», но и здесь критик заметил «нарочитость, влияние экспрессионизма, болезненное внимание к страданию, к ужасам медленной гибели людей» [Юренев, 1959, с.96]. Досталось от Р.Н. Юренева и ироничному фильму Анджея Мунка «Героика» (1957). Стоявший в ту пору на твердых позициях социалистического реализма киновед, утверждал: «Для меня ясно одно: намеренная, сознательная «дегероизация» участников варшавского восстания объективно приводит к клевете на них. … а туманное намерение авторов «Героики» объективно привело их у надругательству над памятью погибших повстанцев и к оправданию людей, смирившихся с фашистским игом» [Юренев, 1959, с.94]. Переходя к анализу современной тематики в польском кино, Р.Н. Юренев был не менее строг и бдителен, трактуя «Восьмой день недели» (1958) как «фильм, клеветнически рисующий и польскую молодежь, и польскую современность. … Так признанный лидер польской кинематографии, создавший ряд сильных и правдивых картин, коммунист Александр Форд, встав на путь ревизионизма, закономерно, хотя и против своей воли, был использован как орудие борьбы против своей социалистической родины» [Юренев, 1959, с.102]. Досталось от Р.Н. Юренева и фильму А. Мунка «Человек на рельсах» (1957), где «сцена пения интернационала была просто оскорбительной» [Юренев, 1959, с.92] и драме В. Хаса «Петля», где «в бесконечно мрачном, унылом и безнадежном облике … предстает современная Польша» [Юренев, 1959, с.100]. Таким образом, статья Р.Н. Юренева, по сути, стала настоящим обвинительным приговором лучшим фильмам «польской киношколы». И, как знать, быть может, именно эта публикация и это конкретное мнение послужило основой для принятия «оргвыводов»: «Героика», «Петля» и «Восьмой день недели» не были допущены до советских экранов вовсе, а «Пепел и алмаз» хоть и вышел, но с большим запозданием. И надо сказать, что Р.Н. Юренев был не одинок в подобных обвинениях. Так известный в ту пору киновед Я.К. Маркулан (1920-1978) выразилась еще грубее: «Черная серия» знаменовала, по существу, обращение к эстетике натурализма. Какие бы причудливые формы ни приобретало «внешнее одеяние» фильма, каким бы ни было оно аристократично-изысканным, внутреннее наполнение его было мелким, часто банальным. Художник рылся в навозной куче, но не для того, чтобы найти в ней жемчужное зерно, а ради самой кучи. Он приговаривал: «Смотрите, какая необыкновенная эта куча, как похожа она то на грозовое облако, то на девятый вал! Сколько в ней правды, красоты, самобытности!». А куча оставалась кучей, о чем свидетельствовало зловоние» [Маркулан, 1967, с.206]. В несколько смягченном варианте, но столь же идеологически заряжено отзывались о польских фильмах второй половины 1950-х и другие заметные советские киноведы: «Как нередко бывает в споре, в своем отрицании фальши и догматизма минувших лет отдельные режиссеры ударились в другую крайность — стали отражать лишь негативные стороны жизни, и их фильмы давали искаженное представление о действительности. Не случайно многие фильмы той поры получили название «черных» … польское кино в конце 50-х годов испытало некоторое воздействие западных эстетических концепций. Мы можем обнаружить в ряде картин мотивы упаднических философских течений, пессимистического восприятия жизни и человеческого одиночества» [Соболев, 1967, с. 17, 28]. «Многие особенности картин второй половины 50-х годов определялись непосредственной реакцией на схематизм и сглаживание противоречий, присущие многим фильмам предыдущего периода. В полемическом запале мастера кино концентрировали теперь внимание на отрицательных сторонах действительности. … Трагическая безысходность и смерть стали главными доминантами при изображении войны и оккупации. Надо также отметить, что в этот период появилось несколько фильмов, в которых новая действительность была очернена. Это объяснялось тем, что на какое-то время в теорию и практику польского кинематографа стало проникать влияние реакционного буржуазного кино… Мрачное, одностороннее видение мира, неверие в человека… Правда, защитники «черной серии» заверяли, что именно эта атмосфера безнадежности призывает зрителя к активной борьбе, но это не соответствовало действительности. … В отдельных художественных фильмах этого рода было видно влияние входивших тогда в буржуазном кино в моду экзистенциалистских тем: некоммуникабельности, беспомощности индивидуума пред абсурдностью бытия и т.д. … Эта тематика была специфической: содержание картин «польской школы» составляли либо история безвыходно-трагических судеб поляков в годы войны и оккупации, либо изображенные в гиперболизированной форме недостатки современной польской действительности» [Колодяжная, 1974, с. 26, 45, 47]. Именно исходя из этой позиции В.С. Колодяжная (1911-2003) критиковала за «черноту» фильмы «Человека на рельсах» (1957) А. Мунка, «Конец ночи» (1957) Ю.Дзедзины, П. Комаровского и В. Ушицкой, «Петля» (1958). В.Хаса [Колодяжная, 1974, с.46-47], а Я.К. Маркулан — вместе с «Петлей» еще и «Загубленные чувства» Ежи Зажицкого, «Базу мертвых» Чеслава Петельского, «Молчание» Казимежа Куца [Маркулан, 1967, с.204]. Как следует из приведенных выше цитат, основным объектами критики польских фильмов второй половины 1950-х в СССР были «пессимизм», «безысходность», «мрачность», «неклассовый подход», «очернительство», «клевета», «ревизионизм», «подверженность западному влиянию» и прочие факторы, воспринимавшиеся с позиций соцреализма как крайне негативные. И надо сказать, что именно в подобных грехах официозная советская кинокритика обвиняла чуть позже и некоторые фильмы, созданные в СССР или с участием СССР («Восточный коридор» В. Виноградова, «Звезды и солдаты» М. Янчо и др.). Анджей Вайда как центральная фигура советской и российской кинополонистикиБесспорно, многие советские кинокритики, посвятившие значительную часть своего творчества именно польскому кино (И.И. Рубанова, М.М. Черненко и др.) старались защитить Анджея Вайду и его коллег от грубых нападок. Однако и они были вынуждены действовать весьма осторожно — в рамках дозволенного цензурой. В частности, в своих публикациях они (быть может, против своей воли) поддерживали официальную советскую версию о раскладе политических сил в Польше военных и первых послевоенных лет: «1939 год с жестокой несомненностью обнаружил ложность буржуазного правопорядка и официального мировоззрения, активно насаждавшегося хозяевами санационной Польши. … Впоследствии, когда стало нереально рассчитывать на поражение Советской Армии, АК выродилась в вооруженные банды, стрелявшие в спины освободителей» [Рубанова, 1966, с. 8-9]. «Политическая программа Армии Крайовой определялась выдвинутым еще в начале тридцатых годов лозунгом о «двух врагах» — Германии и СССР. На деле этот лозунг означал ориентацию на германский фашизм против Советского Союза, что доказал печальный опыт второй мировой войны» [Черненко, 1965a]. «Война, героизм, долг, патриотизм — эти темы стали преобладающими в польском кино. И с наибольшей силой они воплощены в «Пепле и алмазе». О трагедии польских парней, обманутых реакционным подпольем, повернувших автоматы против польских коммунистов и советских солдат, об их бессмысленной гибели с болью рассказывает фильм» [Черненко, 1965b]. «Но взаимосвязанность человека и истории зачастую выступает у Вайды лишь как беззащитность человека перед лицом неотвратимых, но непознаваемых исторических катаклизмов. Поэтому Вайда снимает значительную часть вины самого Мацека, перекладывая ее на плечи истории. Между тем спустя тринадцать лет он не мог не понимать, что за спиной Хелмицкого стоят вполне определенные социальные силы, направляющие руку заблудившегося солдата против нового общественного строя, против законов новой, еще только рождающейся жизни. Эти силы — их нужно назвать по имени — реакционное руководство Армии Крайовой, эмигрантское правительство в Лондоне — однажды уже направили сотни и тысячи Мацеков на бессмысленную гибель» [Черненко, 1965а]. «Не без основания многие считают «Пепел и алмаз» высшим достижением польской кинематографии, наиболее полным выражением того направления киноискусства, которое получило название польской школы. В этом талантливом произведении с необыкновенной художественной силой и честностью раскрыт основной конфликт так называемой «драмы поляка», обреченности, жертвенности во имя ложно понятых идеалов. … Причина успеха была еще и в том, что беспощадный и искренний фильм Вайды сказал впервые правду о тех, что был причиной гибели подобных Мацеку, он раскрыл антинародную сущность лондонского эмигрантского правительства, продававшего интересы Польши, заключившего сделки с гитлеровцами и провоцировавшего братоубийственную борьбу» [Маркулан, 1967, 80, 91-92]. «Актер (З. Цыбуальский — А.Ф.) попытался воплотить на экране эмоциональную биографию поколения, к которому принадлежит сам и представителя которого он с необыкновенной полнотой и отчетливостью сыграл в лучшем своем фильме — «Пепел и алмаз». … Актер играет одновременно вину и безвинность своего героя. Мацек виновен, потому что разминулся с историей, потому что был слеп и глух к ней. Но он и безвинен, потому что, воспользовавшись его патриотическим чувством, его обманули и предали буржуазные руководители движения» [Рубанова, 1965, с.136, 140]. В поисках аналогий, понятных и приемлемых для советской власти, М.М. Черненко и В.С. Колодяжная пытались опереться на роман М. Шолохова «Тихий Дон», подчеркивая, что: «есть в трагедии Мацека Хелмицкого что-то общее с судьбой Григория Мелехова. Пусть различны обстоятельства времени и места, различны биографии и характеры, — их объединяет вина перед своим народом, искупить которую может только смерть» [Черненко, 1964]. «Мачек — человек запутавшийся, как и Григорий Мелихов, оказавшийся жертвой обстоятельств и окружающих его людей, смутно ощущавший свою ошибку и заплативший за нее жизнью. Вместе с тем Мачек и национально-польский тип героя, готового совершать безрассудно смелые поступки, не задумываясь над их практической целесообразностью и их идейным смыслом» [Колодяжная, 1974, с.34]. (здесь и далее разночтения в написании имени главного героя «Пепла и алмаза» связаны с различными версиями русскоязычной транслитерации — А.Ф.) Грубее и жестче эта же аналогия возникала в книге кинокритика Р.Н. Соболева: «к концу фильма Вайда отделяет человеческую накипь от подлинных людей и проводит в последнем пьяном полонезе всех, кто олицетворял собой старую уходящую Польшу. Вот за эти обломки прошлого и умрет на свалке Мацек. … Трагичность же смерти Мацека состоит в той же очевидной истине, что погибает не убежденный контрреволюционер, а обманутый, запутавшийся юноша, подлинное место которого — в рядах строителей новой Польши. Если искать параллели, то так же трагична судьба Григория Мелихова» [Соболев, 1967, с. 40, 43]. Полемизируя со своими консервативными оппонентами, автор монографии о военной теме в польском кино И.И. Рубанова справедливо писала, что «Пепел и алмаз» — фильм не только политический. Его содержание шире, чем просто анализ конкретной политической ситуации. И ситуация, и ее осмысление отошли от истории. Живым осталось обобщенное звучание произведения, которое мы назвали потребностью общей идеи. И потому фильм «Пепел и алмаз» — исторический в той же мере, в какой и современный» [Рубанова, 1966, с.112]. В постсоветских 1990-х М.М. Черненко вновь вернулся к анализу самого знаменитого фильма Анджея Вайды. И здесь он очень точно подметил, что «Пепел и алмаз» сразу же стал частью нашей кинематографической культуры конца 50-х — начала 60-х годов, и, наверное, не найти режиссера, который не смотрел бы эту картину в Госфильмофонде, и сегодня, спустя много лет, не без удивления и ностальгии во многих фильмах наших тогдашних молодых обнаруживается то висящий вниз головой Христос, то неловкий герой, погибающий меж белыми полотнами, на которых остаются капли его крови, то смертельное объятие двух смертных врагов, то... Впрочем, так можно перечислить почти все ударные сцены вайдовского шедевра, за исключением, пожалуй, лишь сцены с горящим спиртом, да и то, наверное, стоит лучше порыться в памяти. Но дело даже не в конкретных следах этой удивительной пластики, дело в общей атмосфере картины, в поразительном смешении грусти и безнадежности, отчаяния и биологической радости жизни, неумолимости исторических предназначений и случайности человеческих выборов...» [Черненко, 1992]. В 2009 году Т.Н. Елисеева оценила «Пепел и алмаз» свободным от оглядки на цензуру современным взглядом: «Главный герой картины, Мачек Хелмицкий, отважный молодой поляк, готовый жертвовать собой «ради дела», боровшийся во время фашистской оккупации за освобождение своей страны, оказывается перед фактом, что его Родину освободили люди чуждой ему идеологии. Мачек принадлежал к армии, которая сражалась за одну Польшу, а была сформирована другая. Мачек хочет быть верным той Польше, за которую боролся, и это его право» [Елисеева, 2009, с.99]. Как уже упоминалось выше, «Канал» А. Вайды в целом был встречен советской критикой положительно [Рубанова, 1966, с.89-99] К примеру, отмечалось, что это произведение «о людях, которые были обречены с первых же кадров фильма, и фильм не обманывал, он предупреждал об этом сразу, в титрах, людях, которые потеряли все, кроме человеческого достоинства, которые не могли победить и знали это, но шли на смерть, ибо смерть оставалась единственным, что им принадлежало в жизни, что они могли выбирать по собственной воле, по собственному разумению. И они делали этот выбор во имя свободы, во имя независимости, во имя победы тех, кто доживет» [Черненко, 1974]. «Всем строем своим выступая против противоестественности войны, против бесчеловечности и жестокости нацизма, фильм Вайды выдвигал как единственную ценность в предсмертной борьбе героизм во что бы то ни стало, исполнение воинского долга ценой жизни. И, подвергая сомнению смысл варшавского восстания в целом, Вайда ни на минуту не усомнился в закономерности и целесообразности героизма каждого из своих героев» [Черненко, 1965а]. И здесь прав М.М. Черненко: несмотря ни на что, «героям военных картин Вайды всегда оставалось хотя бы горчайшее утешение в их бесперспективной и отчаянной борьбе — предсмертное ощущение сопричастности истории, нации, судьбе народа, всему, что на несколько порядков превышает ценность и стоимость индивидуального человеческого бытия; тому, что выше смерти, выше суетности и суеты их героической агонии» [Черненко, 1972]. Советские киноведы обращали внимание и на образность языка этого выдающегося произведения: «Поэтика «Канала» сурова и мужественна. Многие сцены решены здесь с аскетической строгостью, их сила — в экспрессии. Здесь нет и в помине того любования формой, которое достигает апогея в стилистической щедрости «Летны», «Самсона», «Пепла». … Крупные планы, свет, шумы, нервная подвижность камеры, густота тьмы и резкость световых акцентов, рассеченность нашего внимания, следящего за блужданиями героев, рождает эмоциональную напряженность наших ощущений, дают почувствовать с необыкновенной силой поэтический климат картины. Экранное изображение передает нам не только душевное состояние людей обреченного отряда, но и как бы материализует душную смрадность каналов, неустойчивость каждого шага по скользким камням, бесконечность и безысходность этого трагического лабиринта» [Маркулан, 1967, с.77-78]. Справедливо писалось, что в «Канале» «игра актеров была крайне сдержанной и тонкой в выражении доведенных до крайности чувств. Пластический образ действия, документальный по точности, был одновременно острым. Лаконичные и необычные по экспрессии композиции кадров, ракурсы, пучки света, направленные во тьму, подчеркивали трагизм действия, всегда достоверного и часто метафорического» [Колодяжная, 1974, с.33]. Однако к этой положительной оценке «Канала» иногда добавлялась и ложка идеологического дегтя, напоминавшая тогдашним читателям, что «Варшавское восстание — авантюрная акция эмигрантского правительства, имевшая целью вернуть власть буржуазно-помещичьим кругам» [Соболев, 1967, с.31]. И что хотя «Канал» и «Пепел и алмаз» были поставлены талантливо, но «оба фильма не содержали глубокого философского осмысления истории, они дали скорее эмоциональное отражение трагических судеб рядовых аковцев. Политические, экономические и социальные аспекты показанных процессов не были объектом анализа. Вайда коснулся этих проблем мимоходом» [Колодяжная, 1974, с.37]. Яркая, эмоциональная вайдовская «Летна» была встречена советским киноведением еще более критично: посыпались обвинения в формализме [Маркулан, 1967, 102-110]. И даже такой поклонник творчества А. Вайды, как М.М. Черненко писал, что «ссылаясь на Эйзенштейна, Вайда повторял ошибку своего мастера и, понимая это, бросался к другому своему метру — Бунюелю, насыщая фильм кровавыми и жестокими образами, лежащими на грани сюрреалистических кошмаров. Но если у Бунюеля это служит обнажению жестокости и бесчеловечности буржуазной цивилизации, выражает протест художника, отвечающего жестокостью на жестокость, то натуралистические образы «Летны», накладываясь на идейную пустоту фильма, оказываются эффектами ради эффектов. … В сущности, окончательной расправы с уланской легендой не получилось, ибо Вайда не сумел правильно расставить акценты, найти точное соответствие героической эпопеи с иронической историей уланского соперничества, с сентиментальной любовной историей поручика и красавицы шляхтянки. В результате фильм оказался перегруженным автономными символами, раздробленным стилистически, трудным для восприятия. [Черненко, 1965а]. Не пощадил Мирон Маркович и первый вайдовский фильм на современную тему, утверждая, что «герои «Невинных чародеев» — антиподы героев трилогии. Знаменательно, что в первом своем фильме о современности Вайда обращается к характерам, лежащим на периферии действительности. Это понятно. Еще не осмыслив художнически главную проблематику мирного времени, Вайда боялся сфальшивить в этом главном. Фальшь на периферии казалась ему менее рискованной. Впервые Вайда боится риска. И неминуемо проигрывает. Ибо внутренне неустроенный, замкнувшийся в кругу снобистских настроений, герой «Невинных чародеев» не мог стать героем подлинно драматического конфликта» [Черненко, 1965а]. Более консолидировано отнеслась советская кинокритика к исповедальному вайдовскому фильму «Все на продажу»: «Даже самый романтический из них, казалось бы, навсегда обреченный искать и находить в прошлом своего народа лишь трагизм и поражения, даже Вайда снимает в конце шестидесятых годов удивительную по самокритичности, по иронии к себе самому картину «Все на продажу», где подвергает безжалостному пересмотру все, что было сделано им за пятнадцать лет работы в кино, что принесло мировую славу и ему самому и польскому кинематографу» [Черненко, 1974], поэтому «Все на продажу» стал фильмом не только о Цыбульском, он стал фильмом о цене человеческой индивидуальности, отдающей себя другим, исповедующейся на людях и для людей» [Черненко, 1970]. И здесь, наверное, прав М.М. Черненко: художнику порой трудно «преодолеть себя самого — свой успех, свою стилистику, свою драматургию, свои душевные стереотипы, невозможность начать все сначала, оставаясь, как это принято говорить самим собой». Для этого Анджею Вайде «пришлось вывернуть себя наизнанку. Для этого ему пришлось пережить смерть Цыбульского, пережить ее как собственную, чтобы, «оттолкнувшись» от трагической гибели соавтора своего шедевра — кстати сказать, так и не сумевшего до самой смерти освободиться от гипнотического успеха «Пепла и алмаза», — произвести безжалостную оценку своего темперамента и своего интеллекта, жесточайшую ревизию своей этики и эстетики, своего душевного и художественного хозяйства» [Черненко, 1971]. В этом контексте элегичный вайдовский «Березняк» был воспринят советской кинокритикой как своего рода передышка мастера: «Первыми кадрами «Березняка» Анджей Вайда приглашает в непривычное для себя затишье, удивляет выбором героев, почти ставит в тупик фабулой. «Березняк» рассказывает о тайном и явном недоброжелательстве, о жизнелюбии, простодушной чувственности, сиротском горе. … Частная семейная история становится для него новым поводом для размышлений о неразрывной, неизбежной, абсолютной связи человека и его страны» [Рубанова, 1972, с.151]. «В «Березняке», на первый, во всяком случае, взгляд, начисто отсутствует все, что составляло силу и нерв прежних вайдовских лент: жесточайшая, нерасторгаемая сопричастность человека болезненнейшим проблемам истории, ее невралгическим точкам и нерассекаемым узлам. Только здесь, только на перекрестьях личных катастроф героев с трагедиями общества, нации, государства, — только здесь рождалась полемическая температура фильмов «польской школы», наиболее острым представителем которой был Вайда. … Вайда выстраивает свой «Березняк» по законам бесконечно далеким от всего, чему поклонялся прежде. Он погружает своих героев в бездонную безвоздушность взаимной ненависти, он позволяет им выглянуть из инфернального интерьера шляхетского дворика лишь затем, чтобы увидеть третьего участника драмы, быть может, самого важного, — крестьянскую девушку Малину, в объятиях которой младший найдет последнее успокоение перед смертью; в объятиях которой старший найдет освобождение от смерти — во имя будущей жизни» [Черненко, 1972]. Здесь стоит отметить, что как «Березняк», так и «Пейзаж после битвы» были встречены советскими киноведами весьма позитивно [Колодяжная, 1974, с.51-55; Черненко, 1971; 1972; 1978]. При всем негативном отношении советского официоза к социальной драме «Человек из мрамора» (1976) о творчестве Анджея Вайды можно было писать в СССР вплоть до эпохи «Солидарности». К примеру, масштабная драма А. Вайды «Земля обетованная» (1974) вызвала широкий (и в целом положительный) отклик в советской прессе. Так М.М. Черненко пишет очень глубокую по своим философским выводам статью об этом выдающемся фильме, подмечая, что «взгляд Вайды внимателен и печален, он не скрывает ни дряхлости, ни нищеты, «пробивающейся» то там, то здесь — и в обтрепанном кунтуше старого Боровецкого, и в облупившихся красках фамильных портретов, и в скудости меню за патриархальным столом; напротив, он обнаруживает во всем этом своеобразную элегическую поэзию, он любуется чахоточной прелестью неизбежной агонии, этим предсмертным проявлением достоинства и самообладания огромной исторической эпохи, славного и героического национального прошлого. И пусть герои не знают, да и знать не хотят, откуда придет гибель, — они принимают ее приближение с тем гордым и спокойным стоицизмом, который выработали поколения предков, привыкших не столько к победам, сколько к поражениям. … Тем более, что живет в них где-то глубоко внутри надежда на то, что, быть может, все обойдется, ибо, если подумать, если оглядеться вокруг, откуда бы прийти этой гибели, особенно нынче, в восьмидесятых годах спокойнейшего, стабильнейшего XIX столетия, когда мир, казалось, упорядочен до самого страшного суда, когда всюду царит гармония, какой никогда еще не знала Европа. И на свой, не традиционный лад они, пожалуй, и правы: для поместного дворянства опасность может прийти только и исключительно извне, а тогда, как велят обычаи и долг, шляхтич выхватит саблю из ножен, вскочит на белого коня и помчится умирать за бога, честь и отечество... Лет пятнадцать назад мы уже видели это у того же Вайды: тот же белый дворянский дворик, ту же прекрасную шляхтянку, белоголовую и умиротворенную, тех же гордых героев, не раздумывая бросавшихся — с саблями наголо — на гитлеровские танки, залившие огнем и металлом золотую польскую осень тридцать девятого года. Но они, герои «Летны», шли навстречу смерти в ситуации однозначной и ясной, по-своему счастливой, ибо опасность была ясна, определенна. Герои «Земли обетованной» куда более уязвимы, ибо опасность, угроза может быть персонифицирована в ком угодно, даже в самом близком, даже в одном из них, так что не понять, то ли опасность это, то ли просто предвестие какого-то нового, незнакомого и потому пугающего будущего» [Черненко, 1977]. В сравнении с этим текстом М.М. Черненко опубликованная в том же году статья И.И. Рубановой кажется слишком уступчивой советской цензуре: «Земля обетованная», Лодзь, молодой польский капитализм в его понимании — это мир без самосознания, без этики, без понятия о красоте, мир бескультурья и духовной пустоты. Но этом хаосе начинает прорисовываться историческая перспектива. … Финального приказа Боровецкого — стрелять в рабочих — нет у Раймонта. В книге Боровецкий драпирует свою деятельность вялой благотворительностью. Художник наших дней, исповедующий марксистскую концепцию истории, знает, что капитализм силой неумолимой логики вещей в конечном свете лишь залпами может расчистить себе путь к успеху. Так исторический по материалу и исходному замыслу фильм стал остро и актуально политическим» [Рубанова, 1977, с. 176]. После того, как Анджей Вайда активно поддержал движение «Солидарность», отношение к его творчеству в СССР на официальном уровне резко изменилось. В 1981 году в журнале «Искусство кино» была опубликована редакционная статья под характерным названием «Анджей Вайда: что дальше?» [Сурков(?), 1981], и вскоре его имя было на несколько лет вычеркнуто из советской прессы. Даже в энциклопедиях, изданных в эти годы, имя Вайды вымарывалось цензурой. В конце 1980-х очень точно писала об этом И.И. Рубанова: «Отлученное от экрана, запрещенное к печатному употреблению, имя Анджея Вайды последние десять лет существовало для нас на положении мифа. Наибольшее распространение получили две версии легенды — популярная позитивная и внушающая страх официальная. Согласно первой, создатель «Пепла и алмаза» — исторический трагик, поэт поколения, взвалившего на свои плечи груз войны и этим неподъемным грузом раздавленного. Версия вторая: демагог, подстрекатель, конъюнктурщик, разменявший свой поэтический талант на плоское политиканство (см. анонимную статью «Анджей Вайда: что дальше?», помещенную — увы! Увы! — на страницах «ИК» в 1981, № 10), — на портрет карикатуру постановщика «Человека из железа» черной краски не жалели» [Рубанова, 1989, с.155]. О дальнейших, перестроечных (кино)событиях, хорошо написал кинокритик С.А. Лаврентьев: «Уже бурлила кинореволюция. Уже произносились зажигательно-смелые речи и один за другим покидали полку запретные фильмы. Уже самые дремучие ретрограды поняли, что Бюнюэль и Бергман, Коппола и Форман — великие мастера. Уже разгорелась дискуссия об эротике на экране... С Вайдой, однако, вопрос не только не решался, но даже не ставился на обсуждение. Вайду охраняли, как последнюю осажденную крепость. Лишь в октябре 1988 года (!) «Иллюзиону» (после многолетнего перерыва) удалось, наконец, показать его «Пепел и алмаз», а еще 1 ноября, накануне приезда Мастера, многие его почитатели отказывались верить в то, что он ступит на московскую землю» [Лавреньев, 1989]. Но Вайда приехал, выступил в дискуссии, дал интервью. Так началось его возвращение… Впрочем, фильмы позднего Вайды вызвали противодействие не только у советского официоза. Даже в XXI веке в России есть кинокритики, считающие, что на польском «кинематографе смутное время сказалось самым пагубным образом. Вайда по горячим следам тут же сваял убогого «Человека из железа», снятого, как продолжение «Человека из мрамора», с теми же актерами в главных ролях (Кристина Янда и Ежи Радзивиллович), но без фантазии, а исключительно с желанием погреть руки на жареном материале. В Каннах фильму отвалили «Золотую пальмовую ветвь», чего он не заслуживал… Вайда, которому благоволили дорвавшиеся до власти лидеры «Солидарности», выпускал чуть ли не год по фильму, однако его работы в лучшем случае носили чисто формальный характер (например, «Идиот»), в худшем — были занудны и вторичны. Попытки же спекульнуть на историях из недавнего трагического прошлого Польши («Корчак» и «Катынь») были заведомо обречены на провал» [Кириллов, 2011]. Как видно из приведенного выше текста М. Кириллов высказывается резко, категорично, но никак не подкрепляя свое мнения хоть какими-то убедительными аргументами. Еще радикальнее писал по этому поводу Д.В. Горелов, вложивший свою авторскую позицию в эпатажное название статьи — «Либо пан — либо пропал. Памяти польского кино»: «В период «Солидарности» все нырнули в пролетарскую среду, и это было массовым предательством самой идеи польского кино. «Человек из мрамора» и «Человек из железа» не попали бы к нам в любом случае, а и попали бы — оттолкнули чувствительных поклонников навек. Вайда, снимающий про ударную стройку и судоверфь, есть мутная проституция вне зависимости от того, за народную власть это делается или против (хорош был бы Тарковский с фильмом про антисоветскую забастовку шахтеров)» [Горелов, 2011]. Но, может быть, здесь стоит прислушаться к С.А. Лаврентьеву: «Ведь что такое «Человек из мрамора»? Столь же виртуозное, сколь и детальное киноисследование механизма действия адской машины по превращению человеческой личности в «винтик», тем более ценное, что объектом дьявольских экспериментов предстает здесь рабочий. Тот самый рабочий, о благе которого сталинская власть якобы неустанно пеклась, именем которого клялась денно и нощно» [Лаврентьев, 1989]. А что касается награжденного Золотой пальмовой ветвью вайдовского фильма, что «мастерство сочленения в единой художественной структуре хроникального и игрового материала, в котором Вайда всегда был силен, достигло в «Человеке из железа» своего апогея. … зеркально отображая ситуацию «Человека из мрамора», «Человек из железа» говорит о том, что на современном этапе развития общества личность может попытаться не только противостоять дьявольскому механизму, но и выстоять в этой борьбе. Люди здесь верят, что направление развития Истории может зависеть и от их действий. И не просто верят — живут так. … Ставший уже классическим стиль вайдовского барокко, с его обычно «взвихренным» изобразительным рядом, обнаружился в «Человеке из железа» в самой драматургии сюжета, в расстановке персонажей, в упоминавшемся уже соединении хроники и игровых кусков, реальных людей с придуманными персонажами. На сей раз (что, согласен, не совсем обычно для Вайды) нашему взору явилась ежесекундно видоизменяющаяся, чарующая в своей «незафиксированности» магма Жизни. Она не подвластна режиссуре, ибо сама — великий режиссер. Нет главных и второстепенных персонажей, известных исторических деятелей и неизвестных граждан. Все важно. В любую секунду расстановка сил может измениться... Может быть, я не прав, но создание подобного кинообраза представляется мне проявлением высшего мастерства режиссуры» [Лаврентьев, 1989]. Разумеется, после «реабилитации» Вайды киноведы СССР / России стали писать о его творчестве безо всяких цензурных запретов: «О чем говорит «Человек из мрамора»? О том, что история, преобразуя формации, вызывает энтузиазм тех, чьими руками и ради кого эта ломка осуществляется. Что энтузиазм и доверие исторического человека — генераторы колоссальной социальной энергии. Что подмена целей, смешение перспективы способны превратить энергию веры в энергию разрушения вплоть до самоуничтожения. … Так получилось, что «Человеком из мрамора» Анджей Вайда распахнул простор для деятельности своих молодых коллег, а «Человеком из железа» исчерпал мотивы, героя, стилистику «кино морального беспокойства». Отказ от патетики, метафорических пиков, от многослойности и многозначности кинематографического образа, ставка на его прямое звучание, непосредственное проявление реальности, которая сама себя подняла до ранга реальности исторической, — такова была творческая программа авторов картины, полностью совпадающая с тем, что исповедовали молодые адепты «кино морального беспокойства» [Рубанова, 1989, с.158-159, 163]. На мой взгляд, очень верно писали ведущие российские кинополонисты и о двух элегических фильмах позднего Вайды: «Барышни из Вилько» — один из самых гармоничных, умиротворенных, спокойных вайдовских фильмов, из тех, что появляются в его творчестве как минута отдохновения между фильмами конвульсивными, яростными, категоричными» [Черненко, 1990]. «Художественный мир «Хроники любовных происшествий» сложен из двух идеологически и структурно контрастных пластов — из мифа об утраченной Аркадии юности и из реалистической реконструкции примет надвигающегося катаклизма — второй мировой войны. В мифологическом слое «Хроники…» немалый смысл придан некому идеальному образованию — наднациональному, поверхнациональному единству, воплощенному в гимназической дружбе трех пареньков — поляка, русского, немца» [Рубанова, 1989, с.157]. Значимость творчества великого польского режиссера именно для советских зрителей емко удалось выразить М.М. Черненко: «Вайда был живым, непреклонным, неподдающимся давлению ни врагов, ни друзей, свидетельством того, что где-то совсем рядом, почти в тех же условиях, в той же удушливой атмосфере, существует искусство кинематографа, которое не просто ведет диалог на равных с окружающей его реальностью, о чем как о недостижимой возможности мечтали наши кинематографисты, но навязывает этой реальности свой язык, свою манеру разговора, свою систему ценностей. Иными словами, ведет этот диалог с историей и современностью, с национальными мифами и иллюзиями, с ложью и клеветой как образом мысли и жизни, на своих условиях. И одерживает победы, пусть не всегда те, которых добивалось впрямую, но всегда делая следующий, необходимый, очередной шаг к цели конечной и единственной — к свободе каждой человеческой личности, а без нее, как известно, не может быть свободы для всех остальных»[Черненко, 2001]. Весьма любопытные размышления о творчестве А. Вайды можно найти и у А.С. Плахова: «Как-то Анджей Вайда не без горечи обозначил разницу между собой и Бергманом: шведский режиссер сделал персонажами своих фильмов мужчину и женщину, а не улана и барышню (солдата и девушку) — как его польский коллега. Сначала первая, а потом вторая мировая война разделили судьбу Европы пополам, оставив Восточной право на народные трагедии, а Западной — на экзистенциальные драмы. Бергмановские мужчины, никогда не воевавшие на вайдовских баррикадах и не партизанившие в подземных каналах; женщины, живущие в комфортных стокгольмских квартирах, тем не менее, напоминают мифологических героев и героинь древности. Время и место действия дела не меняют. И не потому вовсе, что эти категории у Бергмана относительны в философском смысле, а потому, что все люди — родственники, все проходят в принципе через один и тот же опыт, каждый имеет как минимум одного, а то и множество двойников. Рядом с собой, вокруг себя, в себе — тысячу лет назад, сегодня и всегда» [Плахов, 1999, с.152]. Из всех фильмов Анджея Вайды постсоветского периода российское киноведение закономерно и, думается, справедливо выделяет «Катынь» (2007): «Так или иначе, но нельзя не признать, что 87-летний патриарх польского кино — единственный в мировом киноискусстве мастер, кто ощущает истинный масштаб трагедии и обладает даром передать его зрителям» [Рубанова, 2013]. Ведь именно в «Катыни» особенно ярко проявились черты вайдовского творчества, столь точно описанные И.И. Рубановой: «Сюжеты и герои в его фильмах всегда «встроены» в какое-то нематериальное, неконкретное пространство, присутствующее в эстетической материи произведений то в виде полупримет, то как результат особой драматической конструкции (один из постоянных приемов — система отражений-искажений центрального образа), то как результат создания невидимых «объемов» путем непрямого цитирования знаменитых произведений искусства, иногда своих собственных. Чаще всего этот неочерченный, но угадываемый континуум — история. Сквозная ситуация почти всех фильмов польского режиссера — встреча человека с незримой громадой истории, величие и бессилие личности, вызванной на это трагическое рандеву» [Рубанова, 1989, с.158]. «Острота вайдовских коллизий удваивается еще и тем фундаментальным обстоятельством, что он поляк, гражданин страны, которой выпало оказаться полигоном бурных европейских событий ХХ века. Истерзанная разделом между фашизмом и большевизмом, пройдя через сентябрьскую катастрофу, Катынь, Варшавское восстание, Ялту, потеряв цвет нации (одних похоронив, других вытолкнув в эмиграцию), она из одних когтистых лап попала в другие. И в конечном счете, как уже не раз утверждалось, оказалась единственной страной, потерпевшей полное поражение в мировой войне. Боль украденной победы и вызвала к жизни искусство Вайды» [Рубанова, 2000]. Таким образом, несмотря на все разночтения, Анджей Вайда был и остается главной фигурой для российской кинополонистики. Ванда Якубовская: критический консенсусЗато по поводу творчества режиссера Ванды Якубовской (1907-1998) у советской критики разногласий практически не было. Да и откуда им было взяться? В. Якубовская была членом коммунистической партии, бывшей узницей нацистского концлагеря, занимавшей твердую социалистическую линию в творчестве. Драму В. Якубовской «Последний этап» (1947) об ужасах Освенцима советские киноведы оценили положительно — сразу и надолго [Соболев, 1967, с.10-11; Маркулан, 1967, с.25-38; Колодяжная, 1974, с.6-7]. И хотя остальные фильмы Якубовской не вызвали большого кинокритического интереса, «Последний этап» стал в СССР своего рода эталоном польского антифашистского кино: «Якубовска видит свою цель в том, чтобы показать, как сквозь насилие и надругательство люди проносили надежду, сохранили способность к борьбе, — писала о «Последнем этапе» И.И. Рубанова. — Хронике не под силу было показать волю людей, их неубывающую способность к сопротивлению. Это мог сделать только художественный фильм. Истоком стойкости заключенных Якубовска назвала солидарность. Мотив единения борцов — главный в фильме» [Рубанова, 1966, с.63]. Александр Форд — с попутным ветром на Запад…С творчеством другого польского известного режиссера — Александра Форда (1908-1980) было куда сложнее. Пока он был коммунистом и снимал «Граничную улицу» (1948) его можно было хвалить [Маркулан, 1967, c.38-49]. С другой стороны, А. Форд существенно подпортил свою репутацию в глазах официоза своим «ревизионистским» фильмом «Восьмой день недели» (1958). Вместе с тем, статья Р.Н. Юренева, содержащая резкие обвинения в адрес этой картины А. Форда, была опубликована в узкоспециализированном издании [Юренев, 1959, с.102] и, следовательно, была доступна в основном специалистам. И главное — своей следующей работой — масштабной цветной исторической эпопеей «Крестоноцы» (1960) А. Форд вновь вернулся в приемлемый для СССР контекст. Отсюда понятно, почему Я.К. Маркулан, даже не включившая «Восьмой день недели» в составленную ею для книги «Кино Польши» якобы полную фильмографию польских фильмов 1947-1966 годов, весьма положительно отозвалась о «Крестоносцах». Более того, она с удовлетворением отметила, что «в период, когда наиболее сильны были антигероические тенденции в польском искусстве, Форд делает картину, откровенно воспевающую героизм, как категорию вечную, непреходящую» [Маркулан, 1967, с.49]. Даже о полемично острой военной драме А. Форда «Первый день свободы» (1964) Я.К. Маркулан осмелилась написать практически восторженно: «Наконец еще одна победа. Уже не раз звучали голоса о конце польской школы, о полной инфляции военной темы. А Форд делает картину «Первый день свободы» (по одноименной пьесе Леона Кручковского) и поворачивает ход полемики. Даже ярые противники признают не только правомерность обращения к «отработанной» теме, но и необычайную свежесть и современность решения военной темы. Больше того, признают философское и эстетическое родство последней картины Форда с лучшими созданиями польской школы» [Маркулан, 1967, с.49]. В позитивном контексте о «Первом дне свободы» писал и Р.П. Соболев, отмечая при этом блестящую игру польской звезды Б.Тышкевич: «Наблюдать игру Беаты — наслаждение, какое всегда получаешь при встрече с подлинным искусством» [Соболев, 1966, с.168]. Но… работы Я.К. Маркулан и Р.П. Соболева были опубликованы до 1969 года, когда Александр Форд принял решение эмигрировать на Запад. А вот после 1969 года о нем, согласно советским традициям, кинокритики старались уже не писать… Поэтому даже мимолетное упоминание «Крестоносцев» в русле того, что «одной из характерных черт польского кино 60-х является жанровой разнообразие картин» [Колодяжная, 1974, с.51] было для 1974 своего рода киноведческим вызовом цензуре… Дискуссия о творчестве Анджея МункаАнджей Мунк (1921-1961) погиб автокатастрофе в самом начале 1960-х, поэтому, в отличие от Александра Форда, воспринимался советской кинокритикой как актуальная кинофигура только в период его работ 1950-х: «Человек на рельсах» (1956), «Героика» (1957) и «Косоглазое счастье» (1959). В отличие от Р.Н. Юренева [Юренев, 1959, с.94], Р.П. Соболеву, например, пришлись по душе все фильмы А. Мунка [Соболев, 1967]. Позитивно воспринял «Косоглазое счастье» М.М. Черненко, писавшей о том, что в рамках «польской киношколы» «неожиданностью была ироническая, издевательская и саркастическая комедия Анджея Мунка «Шесть превращений Яна Пищика» (так назвалось «Косоглазое счастье» в советском прокате — А.Ф.). Оказалось, что польские кинематографисты в состоянии взглянуть на трагическое прошлое другим взглядом, беспощадным не только к врагу, но и к собственным слабостям, нелепостям, недостаткам» [Черненко, 1974]. Единодушно положительно советское киноведение приняло и последнюю, недоснятую Анджеем Мунком драму «Пассажирка» пасажирка» [Рубанова, 1966, с.165-178; Колодяжная, 1974]. Главной предметом спора в советской кинокритике стал, в самом деле, полемичный фильм А. Мунка «Героика»: «Героика» строится на изображении нетипических событий войны и нетипических характеров, точнее, парадоксов на тему героизма. Поэтому картина насквозь искусственна: вместо отражения действительности она иллюстрирует «антидогматические» концепции. И это обусловливает тот факт, что «Героика» столь же схематична, как и те фильмы, с которыми она полемизирует» [Колодяжная, 1974, с.39]. В «Героике» «нет протеста, нет борьбы, есть только религиозная фанатичная вера в чудо, легенду, миф, как единственное избавление» [Маркулан, 1967, с.119]. Мягче всех критиковала «Героику» И.И. Рубанова, отметившая, что главный просчет авторов фильма «не в переосмыслении исторических реалий. Он в том, что сложное явление истории осознанно ими только частично, вне учета связей и переплетений разнородных закономерностей» [Рубанова, 1966, с.119]. Разумеется на фоне этих подцензурных, осторожных высказываний выводы постсоветской статьи Т.Н. Елиссевой о «Героике» выглядит убедительнее: «В своем фильме Мунк ставит вопросы, которые много раз ставились в истории Польши: как выжить в неволе, как справиться с унижением, как не дать умереть надежде. … И хотя картина Мунка — голос против мифологизации геройства, она не направлена против самого героизма» [Елисеева, 2009, с.25]. Войцех Хас: исчезнувший из поля зрения…Советская кинокритика в целом негативно [Юренев, 1959, с.100] встретила мрачную драму В. Хаса «Петля» (1957), по всем признакам относящуюся к так называемой «черной серии» польского кино. «Петлю» было принято ставить в ряд с ««глубоко ошибочными фильмами, … подменявшими здоровую критику недостатков агрессивными нигилизмом» [Колодяжная, 1974, с.27]. На этом фоне положительное отношение к «Петле» И.И. Рубановой [Рубанова, 1966, c.146-148] выглядело диссонансом. Однако выход на советские экраны фильмов В. Хаса «Как быть любимой» (1962) и «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1964) сделал его в СССР вполне легитимным, поэтому о его творчестве можно было писать с открытой симпатией. Трагикомедия «Как быть любимой» была оценена советским киноведением особенно тепло [Рубанова, 1966, с.148-151]. М.М. Черненко писал об этой печальной и ироничной картине так: «Будь я историком, я должен был бы сказать, что роль, которую сыграл в этой картине Збигнев Цыбульский, была отчетливой пародией на его Мацека Хелмицкого из «Пепла и алмаза», что вся драматургия картины не скрывала своей пародийности по отношению к «польской школе», но тогда, после просмотра фильма, в памяти оставалось не это — оставалась поразительная актриса Барбара Краффтувна, пронзительная история ее героини, пожертвовавшей собой во имя любви вопреки всем разочарованиям, которые ей привелось пережить» [Черненко, 1974]. А киновед Я.К. Маркулан в своей монографии вышла на обобщение творческого почерка мастера: «Хас, пожалуй, самый сложный художник польского кино. Не так просто порой пробиться к существу его созданий, понять их скрытый смысл. Иногда кажется, что он мистифицирует зрителя и выдает за многозначность если не пустоту, то что-то очень элементарное. А то рождается подозрение, что он просто забавляется формой, с ловкостью виртуоза выстраивает умопомрачительные конструкции из кинематографических строительных материалов. Но понять, чему будут служить эти конструкции, бывает трудно, порой невозможно. Последовательно, с упрямством человека, знающего истину, он создает причудливый мир, мало похожий на тот, в котором мы живем, и населяет его людьми тоже странными, маниакально одержимыми одной страстью (не идеей, а именно страстью). Герои его всегда поставлены в положение исключительное, чаще всего они изолированы от среды, лишены дела и ощущают минимальные связи с обществом. Камера Хаса подобна микроскопу, увеличивающему объект наблюдения до невероятных размеров и как бы отдаляющему его от всего, что не попало в объектив» [Маркулан, 1967, с.208]. Однако после выхода в советский прокат хасовской «Куклы» (1968) его последующие работы исчезли из поля зрения советской кинокритики. Причину этого точно подметил Д.Г. Вирен: «в творчестве Войчеха Ежи Хаса «удельный вес» сюрреалистической образности возрастал от фильма к фильму» [Вирен, 2015, с.16], что было абсолютно неприемлемо для советской цензуры 1970-х — первой половины 1980-х. И лишь в постсоветские времена, уже после смерти В. Хаса (1925-2000) Т.Н. Елисеева опубликовала первую в российской кинокритике рецензию на хасовский сюрреалистический шедевр — «Санаторий под песочными часами» (1973): «Это прекрасная, изящная и живописная лента, главный герой которой — ностальгия по уходящему времени, по уходящей и исчезнувшей культуре восточный районов Польши, где была уже сильна еврейская стихия, но уже как бы предчувствовался ужас надвигающейся эпохи концлагерных крематориев. … Люди и вещи показаны в длинном ряду метаморфоз: с одной стороны, они являются самими собой, но затем могут стать еще чем-то иным, стать предзнаменованием своих дальнейших преобразований, которым нет конца» [Елисеева, 2009, с.123]. Ежи Кавалерович: (поначалу) любимец советского прокатаВ советском прокате 1960-х фильмы Ежи Кавалеровича (1922-2007) занимали особое место: почти все его работы, поставленные им до 1966 года, благополучно были закуплены и показаны. Особый успех у советских зрителей имела его цветная историческая драма «Фараон» (1965). Однако далеко не все советские кинокритики с пиететом относились к фильмам Е. Кавалеровича. Так Я.К. Маркулан утверждала, что «Поезд» всего лишь великолепный этюд. Бедность драматургии нельзя преодолеть ничем, и все титанические усилия режиссера и его помощников разбивались о пустоты сценария, его эскизность, а подчас и банальность» [Маркулан, 1967, с.195]. В центре внимания советских киноведов по праву оказалась «Мать Иоанна от ангелов» (1961). А.Л. Сокольская, например, писала, что этот «фильм, без сомнения, противостоит религиозному мироукладу. Но он не только о религии. Он вообще о несвободе, о запретах, тяготеющих над человеком. О жажде действия, которая сильнее страха. Об активности натуры. Один из польских критиков назвал его произведением о современном Фаусте. О Фаусте, который носит дьявола и бога в самом себе. Иоанна в исполнении Винницкой — личность незаурядная и сознающая свою незаурядность. Ей от природы дано много: сила, красота, пытливый ум... Пожалуй, слишком много, чтобы примириться с безвестностью и стать покорной овцой в стаде божьем» [Сокольская, 1965, с.65]. Мнение А.Л. Сокольской, по сути, нашло поддержку и у Я.К. Маркулан: «Идейные и эстетические поиски Кавалеровича привели к созданию монументально-философской «Матери Иоанны от ангелов». В этом сложном фильме художник сохранил верность своим основным принципам: и здесь присутствует «голод чувств», доводящий героев до исступления и бунта, и здесь богатство и сложность психологии выражены через актера, через пластику, музыку — гармонию всех компонентов языка» [Маркулан, 1967, с.196]. «Мать Иоанна от ангелов», пожалуй, тот случай, когда мнения советской и постсоветской кинокритики практически совпали. Так Т.Н. Елисеева утверждает, что здесь «любовь и вера столкнулись в конфликте. Кавалеровича прежде всего интересует извечная проблема границ свободы человека, проблемы отношения человеческой природы к предпринятым добровольно или навязанным извне запретам. Затронутые в фильме проблемы носят универсальный характер. Время действия также условно… может происходить всегда и везде. … картина — прекрасное, зрелое размышление о конфликте веры и любви, природе человека, взгляд на сумасшествие и демонизм как на попытку бунта против лживости мира» [Елисеева, 2009, с.71]. Начиная с 1966 года, только одна новая лента Ежи Кавалеровича попала в советский прокат. Причину этого можно, наверное, найти в том, что «у Кавалеровича есть особенность — каждый его новый фильм словно зачеркивает все, что было достигнуто в предыдущем. Он всегда в поиске, и потому каждый его фильм можно назвать экспериментальным» [Соболев, 1967, с.15]. И если его эксперименты 1950-х — первой половины 1960-х годов находились в рамках, дозволенных советской цензурой, то откровенно постмодернистские «Игра» (Польша, 1966) и «Магдалина» (Италия-Югославия, 1970) уже никак не вписывались в эстетику соцреализма, а «Смерть президента» (1977) и «Аустерия» (1982), скорее всего, показались цензорам слишком политизированными. По сложившейся инерции никто, конечно, не запрещал советским киноведам называть Е. Кавалеровича классиком польского экрана, но о том, что он снимал с 1966 по 1989 год читателям одной шестой части света было почти неизвестно… Тадеуш Конвицкий: вне советских экрановНи один из шести авторских фильмов выдающегося польского писателя, сценариста и режиссера Т. Конвицкого (1926-2015) так и не попал в советский прокат. Однако, как это ни странно, его первые три картины довольно оживленно и в позитивном контексте обсуждались советским киноведением [см., например: Маркулан, 1967, с.230-234]. Особый интерес вызвал режиссерский дебют Т. Конвицкого «Последний день лета» (1957). И.И. Рубанова писала, что «атмосфера грусти, изолированности, почти космической пустынности воссоздана в картине с большим мастерством. Конвицкий и Лясковский констатируют отчужденность своих героев, но они не стремятся и объяснить ее. И за этим объяснением они обращаются в прошлое» [Рубанова, 1966, с.137]. Доброжелательно отозвалась об этом фильме и Я.К. Маркулан, отметившая, что это «одно из самых поэтичных и лиричных произведений польского кино, но это, пожалуй, также самая грустная лента, в которой тема одиночества зазвучала безысходно, надрывно» [Маркулан, 1967, с.223]. Причину интереса советского киноведения к фильмам Т. Конвицкого 1950-х — 1960-х годов прояснила В.С. Колодяжная: «Конвицкий стал первооткрывателем нового содержания и новых выразительных средств кино, так как увидел, что специфика кино позволяет отразить сложный интимный, лирический мир человека, те области духовной жизни, которые ранее считались принадлежностью только одной литературы. Конвицкий доказал, что сама по себе эта духовная жизнь столь интересна, что не нуждается в фабульных подкреплениях, — и более того, они отвлекают от изображения сознательных и подсознательных процессов, протекающих в глубине внутреннего мира» [Колодяжная, 1974, с.63]. Работа В.С. Колодяжной была опубликована в 1974 году, когда Т. Конвицкий уже снял свой главный, пронзительно исповедальный фильм «Как далеко отсюда, как близко» (1971). Однако В.С. Колодяжная предпочла даже не упоминать эту картину. Аналогичным образом поступил и автор статьи о творчестве Густава Холубека Л. Муратов [Муратов, 1976], хотя именно этот актер исполнил одну из ключевых ролей в этом фильме Т. Конвицкого. Причина этого, как и в случае с фильмами Е. Кавалеровича «Игра» и «Магдалина», была тоже эстетическая, так как «центральная картина режиссера «Как далеко отсюда, как близко» в полной мере соответствовала канонам сюрреализма: все ее действие построено на пересечении настоящего и прошлого, фантазий и воспоминаний, снов и яви» [Вирен, 2015, с.17]. В итоге творчество Т. Конвицкого 1970-х — 1980-х стало фантомом не только для советской публики, но и для киноведения… Ежи Сколимовский: от критики — к табуНи одна режиссерская работа Ежи Сколимовского не попала в советский прокат. Однако, до его эмиграции на Запад, случившейся в конце 1960-х, советские кинокритики охотно писали о его творчестве. Так Я.К. Маркулан признавала, что «Сколимовский, бесспорно, талантливый режиссер. «Особые приметы» удивительны по искренности и точности режиссерского языка, «Вальковер» поражает зрелостью мастерства двадцативосьмилетнего художника, хотя в этой ленте появился налет манерности, своеобразного кокетства. … Много уязвимого есть и в объективизме Сколимовского, в его взгляде на своего героя как бы со стороны и, главное, в отказе от каких бы то ни было выводов» [Маркулан, 1967, с.235]. С Я.К. Маркулан был вполне согласен и Р.П. Соболев: «Искушенный зритель может заметить, что во всем сказанном о Сколимовском нет, пожалуй, ничего, что не было бы известно мировому кино. И однако же стиль Сколимовского — это нечто ошеломляющее, необычное. Конечно, его стиль подготовлен всеми теми исканиями последнего десятилетия, что происходили в кино. Конечно же, Сколимовский впитал опыт польских кинематографистов и французской «новой волны», открытия Годара и Антониони, поучительные неудачи «киноправды» и многое другое» [Соболев, 1967, с.98]. Отъезд Е. Сколимовского на Запад, разумеется, радикально сменил критический вектор высказываний советской кинокритики. Так В.С. Колодяжная, подчеркивая его «неверие в духовные ценности, в том числе и в духовные ценности социалистического общества», утверждала, что «герои Сколимовского живут по западным экзистенциалистским схемам, они глубоко чужды современной польской жизни. … Сколимовский … пытается стать на позицию «стороннего наблюдателя», но не подлежит сомнению, что духовное убожество людей, отсутствие контактов между ними и трагическая абсурдность бытия кажутся ему неотъемлемыми чертами мироздания» [Колодяжная, 1974, с.77]. И такая позиция киноведа в условиях строгой советской цензуры неудивительна. Удивляет другое, что она находит поддержку среди некоторых российских критиков и в XXI веке. К примеру, М. Кириллов и сегодня считает, что «фильмы, представлявшие в Польше стилистику «новой волны», снимали только два человека — два друга, Роман Поланский и Ежи Сколимовский. Фильмы Сколимовского были абсолютно космополитичны и с местом действия вообще не были никак завязаны. Его герои вырваны из среды, живут они по своим законам, перпендикулярным обществу. … Сколимовский же, покинув «социалистический рай», который он глубоко презирал, как режиссер просто деградировал, снимая никчемные и лишенные фантазии поделки» [Кириллов, 2011]. Роман Полянский: только один фильмДебютировав серией короткометражек, Роман Полянский (Поланским он стал уже на Западе) поставил в социалистической Польше только один полнометражный фильм — «Нож в воде» (1962), «сценаристом которого был «вундеркинд» польского кино Е. Сколимовский» [Соболев, 1967, с.88]. Как и «первая сюрреалистическая короткометражка «Два человека со шкафом» (1958), его полнометражный дебют «Нож в воде» — психодрама с садомазохистским изломом — резко отличались от польской кинопродукции тех лет и были восприняты в Европе не как социально-романтическая славянская экзотика, а в качестве "своих"» [Плахов, 1999, с.31]. Это и позволило Р. Поланскому после его эмиграции очень быстро (с 1963 года) адаптироваться на Западе… Отсюда в общем-то ясно, почему Р.П. Соболев негативно оценил эту номинированную на «Оскар» психологическую драму: «Это не простой фильм — в чем-то он, бесспорно, правдив и аналитичен, а в чем-то односторонен и узок по мыслям. Его называли снобистским фильмом. Возможно. Однако в первую очередь бросается в глаза то обстоятельство, что сделан он холодными руками, человеком, быть может, и очень талантливым, но явно равнодушным к людским радостям и печалям. После просмотра «Ножа в воде» делаешь два несомненных вывода: а) автор презирает людей и б) люди достойны презрения» [Соболев, 1967, с.88-89]. В похожем ключе писала о «Ноже в воде» и Я.К. Маркулан: «Все это можно понять двояко. То ли авторы фильма протестуют против «малой стабилизации», высмеивают обе стороны мещанства — откровенную и замаскированную, то ли всерьез считают неизбежность и всеобщность обывательского оподления. Фильм похож на изящный парадокс, рассчитанный на занятность» [Маркулан, 1967, с.244]. А ей вторила В.С. Колодяжная: «Эгоизм, мелкое тщеславие, бездуховность — таковы основные черты всех героев. … Люди были изображены ничтожными по своей природе, а бытие в целом представало лишенным смысла» [Колодяжная, 1974, с.76-77]. Приговор официального советского киноведения был строг и безжалостен: «не было ничего удивительного в том, что Роман Поланский и Ежи Сколимовский переметнулись в капиталистический мир. Здесь они занялись постановкой развлекательных картин, сохраняющих прежнюю философскую сущность. Оба режиссера изображают преступления, порождаемые порочной биологической природой человека и трагической нелепостью мироздания» [Колодяжная, 1974, с.78]. Но и здесь стоит заметить, что уже в XXI веке российский критик М. Кириллов, по сути, остался верен традиции советской кинокритики относительно «Ножа в воде»: «Роман Поланский, как оказалось впоследствии, был в принципе чужд какой бы то ни было идеологии и киностилю. Он был умелый и талантливый имитатор, мгновенно подстраивающийся под тот стиль, который был в моде «в этот конкретный момент. … фильм Поланского, «Нож в воде» (1963), в чем-то перекликался с опытами Шаброля, однако польскому режиссеру не хватало гнева и сарказма француза — он только имитировал психологический триллер» [Кириллов, 2011]. Но мне по душе мнение, высказанное о «Ноже в воде» Т.Н. Елисеевой: Роман Полянский «не просто противопоставил обеспеченного обывателя и представителя молодого поколения, воспитанного в соответствии с определенными морально-общественными принципами. Он язвительно доказал, что принципы эти ничего не стоят, порождая лишь зависть и стяжательство. И хотя режиссер создал универсальную ситуацию, существующую вне времени, не связанную ни с какой-либо страной, ни с эпохой, человеческие аллюзии прочитывались и узнавались легко» [Елисеева, 2009, с.82]. Кшиштоф Занусси и кинематограф «морального беспокойства»Кшиштоф Занусси — один из немногих ярких примеров положительной оценки польского кинематографиста кинокритикой — как советских, так и постсоветских времен. В начале его карьеры его последовательно хвалила В.С. Колодяжная [Колодяжная, 1974, с.79-83], отмечая, что «Занусси показал себя моралистом в самом благородном смысле этого слова: он ратует за Добро, за глубокое постижение смысла жизни, за идеалы» [Колодяжная, 1974, с.80]. В доброжелательной манере писал об этой выдающемся мастере киноискусства М.М. Черненко, отмечая, к примеру, что в «Гипотезе» (1972), «в этом нескрываемо ироническом перечне возможных вариантов человеческой судьбы, взятой на перекрестке судеб Европы в начале нашего века, Занусси словно открывает на глазах у зрителя весь инструментарий своего телевизионного кино. Он поворачивает ситуации жизни героя — ученого из неназванной европейской страны — то так, то эдак, обнаруживая в каждой из них все ту же непреодолимую обусловленность биографии этого человека жесткой логикой обстоятельств, никак не зависящей от него самого» [Черненко, 1978]. Столь же тепло Мирон Маркович писал и о «Защитных цветах» (1976) — одной из центральных драм польского кино «морального беспокойства»: «Если вспомнить все, что делал Занусси до этой картины, станет ясно, какой неожиданностью оказался фильм «Защитные цвета» для критики и зрителя. Вместо аскетичных, сугубо рационалистических нравственных казусов, вызывавших восторг у посетителей киноклубов и завсегдатаев фестивалей, вместо «настоящего европейского» кинематографа, резко выделявшегося на фоне импульсивного, взрывчатого польского кино,— ехидная сатирическая лента с хорошо скроенным сюжетом, неожиданным чувством юмора, элегантным диалогом... Все, что копилось в течение первых десяти лет работы в кино, здесь, в «Защитных цветах», с неожиданной легкостью и каким-то почти дебютантским задором ворвалось в начинающуюся на польском экране дискуссию о безнравственности власти, о лицемерии и наглости хозяев жизни, о всеобщей деморализации общества...» [Черненко, 1990]. В самом деле, «физик и философ (по двум первым своим образованиям), он (К. Занусси — А.Ф.) позиционирует себя парадоксально: как рациональный христианин. Каждое его высказывание очевидно религиозно и вместе с тем выверено строгим западным рационализмом. Рационалист же Занусси довольно часто на поверку оказывается идеалистом. … Его фильмы всегда говорили о некоем особом мире. Точнее, о двух мирах. В одном текла обычная жизнь с ее иногда необычными проблемами, в другом — решались вопросы жизни и смерти, правды и свободы» [Рахаева, 2007]. И я полностью согласен с Т.Н. Елисеевой: «В своих картинах Занусси обстоятельно и бесстрастно переводит на язык кино самые фундаментальные и сложные проблемы человеческого бытия, существенные для каждого человека, — рождение, жизнь, смерть, интеллект, совесть, душа, вера. Для режиссера современный мир — территория моральных конфликтов и этических дилемм. Благодаря точной драматургии, сложные психологические, моральные, а также философские конфликты, несмотря на свою кажущуюся некиногеничность, обретают живость и остроту. Это достигается, главным образом, выразительностью и правдивостью образов, интеллектуальной интенсивностью их конфликтов, потому что основное средство выражения режиссера — игра актеров» [Елисеева, 2002, с.67]. В 1982 году я написал довольно объемную статью «Киноискусство Польши 1970-х: «третье поколение» и дебюты молодых» [Федоров, 1982] и по молодости лет попытался предложить ее нескольким тогдашним (кино)журналам. Полагаю, что тогдашнюю цензуру насторожили уже первые строки моей статьи, начинавшейся так: «В 1960-е годы польская кинематография лишилась некоторых из своих ведущих художников, как зачинателей «польской школы», так и молодых мастеров. В 1961 году стал жертвой автокатастрофы режиссер Анджей Мунк («Героика», «Пассажирка» и др.). В 1967 погиб под колесами поезда актер № 1 Польши Згибнев Цыбульский... В 1963 году выезжает на Запад «вундеркинд польского экрана» Роман Полански («Нож в воде», 1961). В 1968 его примеру следует другой молодой режиссер и актер Ежи Сколимовски («Валковер», «Барьер», 1969) . Чуть позже эмигрируют один из лучших польских операторов Ежи Липман (снявший «Канал», «Пепел» и др. классические ленты) и режиссер знаменитых «Крестоносцев» Александр Форд. Предпочли работать на Западе талантливые мультипликаторы Ян Леница и Валериан Боровчик... За все десятилетие 1970-х на экраны выходит только один фильм Войцеха Хаса («Санаторий под песочными часами», 1974). Проведя несколько лет за рубежом автор «Поезда», «Матери Иоанны от ангелов» и «Фараона» Ежи Кавалерович лишь в самом конце 1970-х ставит ретродраму «Смерть президента» (1978) об убийстве в 1923 году польского президента Габриэля Нарутовича. Только один фильм в 1970-х был поставлен и Тадеушем Конвицким, покорившим когда-то венецианский фестиваль поэтичным «Последним днем лета» (1959)... Значительно поумолкли дискуссии вокруг новых фильмов Евы и Чеслава Петельских, Витольда Лесевича, Станислава Ленартовича, Яна Рыбковского, Станислава Ружевича и иных режиссеров старшего поколения. Из всех «мэтров» один только Анджей Вайда продолжал плодотворно работать, поставив в 1970-х такие значительные картины, как «Пейзаж после битвы», «Земля обетованная», «Человек из мрамора» и др. Итак, в 1970-х на первый план вышли новые мастера, многие из которых родились уже после войны — «третье польское кино» [Федоров, 1982]. Таким образом, статья оказалась, как говорится, «не ко времени», и была благополучно отклонена всеми известными мне в ту пору изданиями… Юлиуш Махульский — любимец советского экранаЕсли бы Юлиуш Махульский снимал свои озорные комедии в 1970-х, они, скорее всего, так и не добрались бы до советских экранов. Но… эротико-фантастическая комедия Ю. Махульского «Сексмиссия» (1983), пусть даже и в подрезанном цензурой варианте и под куда более невинным названием «Новые амазонки», с триумфом вышла в советский прокат уже в перестроечные 1986-1987 годы. С аналогичным успехом шли в советском прокате 1980-х криминальные ретро-комедии Ю. Махульского «Ва-банк» (1981) и «Ва-банк-2» (1984)… М.М. Черненко метко писал, что Ю. Махульский «последователен и упрям в том, что делает, не страдая кинематографическим мессианством, склонностью к излишнему критицизму или, не дай бог, социальному анализу. Иначе говоря, безукоризненно точно знает он свое место в кино, знает, что место это — его собственное. Никто на него до сих пор не посягнул, а если посягнет, то в зоне этого «кино для всех» всегда найдется место таланту, и в случае необходимости он сам, Махульский, или неожиданный конкурент просто подвинутся в сторону, чтобы не мешать другому» [Черненко, 1990]. При этом в «Сексмиссии», использован «бродячий сюжет о царстве женщин, куда переносятся из наших дней двое мужчин — застенчивый ученый и шустрый комбинатор, — пронизан таким количеством актуальнейших политических аллюзий, намеков и ассоциаций, что приобретшая эту картину отважная закупочная комиссия едва не положила на чей-то стол в полном составе свои партбилеты» [Черненко, 1990]. После колоссального успеха «Ва-банка» (1981) Ю. Махульский снимает «Ва-банк-2, или Ответный удар» (1984) так, что тот «не только не уступает своему предшественнику, но в чем-то и превышает его — элегантностью и небрежным профессионализмом режиссуры (это, видимо, после годичного пребывания на американских студиях, где он многому научился), способностью выстраивать феерическое приключенческое зрелище» [Черненко, 1990]. Конечно, «Ва-банк» можно назвать «чудной жанровой безделицей» [Горелов, 2011], однако, под это определение, вероятно, попадает большинство фильмов легких жанров. Зато в «Кингсайзе» (1988) Ю. Махульский явно подбавил сатирическую составляющую и создал пародию «на очень знакомый мир, в котором мы увидим все как есть: карточную систему и закон о запрещении распития спиртных напитков в рабочее, а также нерабочее время; заседание парламента, исследующего следы крамолы в сказках братьев Гримм; идеологическую борьбу с распространяющимся либерализмом, утверждающим, что там, в «Кингсайзе», живут существа, именуемые женщинами. А если нам покажется, что все это слишком пессимистично, мы увидим местных бунтарей под лозунгами «Кингсайз для каждого» [Черненко, 1990]. К сожалению, «Кингсайз» стал последним фильмом Ю. Махульского, вызвавшим интерес у российских кинокритиков. В последующие годы о его творчестве в России уже писалось мало. Ну, разве что какое-то внимание привлек к себе «Эскадрон» (1992), воспринятый как «попытка посмотреть на восстание 1863 г. глазами русского офицера, который влюбляется в прекрасную польскую патриотку, но, будучи врагом, не может рассчитывать на взаимность. Герой фильма — честный молодой человек, который видит беды поляков, но своими действиями только способствует их продолжению. Другой русский офицер — капитан (Сергей Шакуров), тоже вроде бы в меру положительный персонаж, но он весьма прагматичен и противится бессмысленной жестокости командира (поляка-ренегата) только тогда, когда считает его действия вредными для дела (наведения порядка во взбунтовавшейся провинции). Подобного персонажа Шакуров сыграет еще раз через несколько лет в фильме Анджея Вайды «Пан Тадеуш». В этих ролях — отзвук старого польского стереотипа: русские как пассивные рабы царя; это или жестокие разрушители, составляющие безликую, враждебную полякам массу, или отдельные совестливые люди, которые, однако, не сделают ничего, чтобы изменить ситуацию» [Рахаева, 2012, с.231]. Кшиштоф Кесьлевский: метаморфозыСоветская кинокритика впервые заинтересовалась творчеством Кшиштофа Кесьлевского (1941-1996) после того, как его сатирический фильм «Кинолюбитель» (1979) получил один из главных призов Московского кинофестиваля, хотя и чуть раньше И.И. Рубанова, пытаясь встроить его фильмы «морального беспокойства» в приемлемый для киноначальства контекст, писала, что Кесьлевский «наделен острым художническим зрением, гибким умом современного интеллигента, позволяющими мелочи оценить как часть великого целого и в ничем не привлекающем внимания, порой даже неказистом облике рядового своего современника представить человека, без которого не мог бы осуществиться тот широкий по размаху и динамичный по темпам разворот социалистического строительства, который совершает сегодня народная Польша» [Рубанова, 1978, с. 257]. Как позже писал А.С. Плахов, «международная известность Кшиштофа Кесьлевского началась с Большого приза фильму «Кинолюбитель» на Московском фестивале 1979 года. Приз был присужден по причине тупости брежневских идеологов, в очередной раз проглядевших крамолу. Это была острая рефлексия бывшего документалиста на предмет двойственной роли кинокамеры вообще и в социалистическом мире двойной морали, в частности» [Плахов, 1999, с.154]. Объяснение этого просчета советской цензуры можно найти у И.И. Рубановой: «Интересно, что единственная из всех «беспокойных» картин, «Кинолюбитель», была не только принята в конкурс Московского кинофестиваля 1979 года, но и получила Золотой приз. Не потому ли, что, лишенная поддержки родственных ей работ, лента Кесьлевского лишилась своей почти бунтарской энергетики и была у нас воспринята чуть ли не как жанровая история о рабочем пареньке, помешанном на художественной самодеятельности?! Контекст — великое дело» [Рубанова, 2009]. В качестве своего рода наглядной иллюстрации к словам И.И. Рубановой можно привести рецензию Е. Бауман под названием «История одного хобби». Вот что она пишет о главном персонаже «Кинолюбителя»: «Удары судьбы так и сыплются на нашего простодушного героя. И все потому, что он, быть может, еще безотчетно, ощутил свое новое занятие как призвание, в котором он решил быть верным лишь своему внутреннему голосу» [Бауман, 1981, с.184]. Вскоре после московского триумфа «Кинолюбителя» пришло время «Солидарности», и имя поддержавшего ее режиссера стало в ходу у советской кинокритики только в эпоху «перестройки», когда «триумфом Кесьлевского стал «Декалог» (1988—89) расцененный в киномире как творческий подвиг. Десять фильмов, снятых в рекордно короткие сроки на высочайшем духовном накале, предстали чудом минималистской красоты в век торжествующего маньеризма и серийной культуры. Кесьлевский и его сценарист Кшиштоф Песевич не испугались назидательности, с которой каждая из Десяти заповедей накладывается на релятивизм современной общественной морали. Избранный ими драматургический принцип, как и изобразительное решение, и характер актерской игры концентрируют все лучшее, что было выработано польским кино "морального беспокойства", но идут дальше — от модели общества к проекту личности, от Вайды — к Бергману» [Плахов, 1999, с.154]. О творчестве создателя «Декалога» замечательно писал и М.М. Черненко, убежденный в том, что «гармоническое и непротиворечивое соединение несоединимого — жестокого, энтопологического по своему бесстрастию документализма с метафизикой и составляет нерв и смысл кинематографа Кесьлевского. Больше того, именно этот взрывчатый эстетический и этический коктейль объясняет еще одно свойство режиссера, определившее его уникальность в мировом кинематографе, — мышление циклами, склонность к необычному, неканоническому эпическому мышлению, стремление расширить свой художественный мир за пределы классических сюжетов и ситуаций, ибо там, в привычных кинематографических объемах, обе стороны режиссерского дарования, попросту интерферировали, нейтрализовали друг друга» [Черненко, 1996]. Так, в «Коротком фильме об убийстве» (1987) К. Кесьлевский «открывает не месть, не кару, но пустой и самодовольный ритуал, упрямство непререкаемой догмы, освященной столетиями, но не священной, ибо для режиссера, человека католической нравственности, католической этики, убийство именем закона столь же противоестественно, как убийство против закона, против человека и человечности» [Черненко, 1990]. В свое время (во время одного из Московских кинофестивалей) мне удалось не только увидеться, но и поговорить с К. Кельлевским. И я полностью с А.С. Плаховым: «Кесьлевский не укладывается в классификацию Андре Базена, который делит художников на тех, кто предпочитает реальность, и тех, кто верит в образ. У него нет противоречия между физикой и метафизикой. Кесьлевский-художник погружен в тайну жизни, в ее ужасы и в ее чудеса. … Кесьлевский был одним из последних авторов в кино, которые относились к нему не как к аттракциону или забаве, а как к моральному посланию. Он преодолел культурный барьер между Востоком и Западом, между Европой и Америкой, между кино классическим и современным. Он заставил людей конца XX века слушать себя. Вот почему он так спешил: он знал, что сегодня его еще способны услышать. Услышат ли завтра?» [Плахов, 1999, с.155, 151]. О «белых пятнах» польского киноВ силу политических и цензурных причин многие польские фильмы социалистического периода оставались практически вне анализа советской критики. Вот почему так важно, что уже в наше время российское киноведение вводит в научный оборот имена таких польских кинематографистов как, например, Гжегож Круликевич. К примеру, Д.Г. Вирен пишет о ключевом эпизоде (убийство пожилой пары, у которой убийцы снимали квартиру, убийство случайных свидетелей преступления) самого известного фильма Г. Круликевича «Навылет» (1972): «Действительно, с одной стороны, мы имеем дело с документальным — или, скорее, псевдодокументальным — стилем, с другой стороны, в данном эпизоде очевидна стилизация под фильмы немецких экспрессионистов, что главным образом проявляется в резком контрастном освещении, а также в композиции некоторых кадров» [Вирен, 2013, с.19]. И далее — о шокирующем отношении режиссера к своим главным персонажам (что, по-видимому, и стало причиной того, что «Навылет» не преодолел советскую цензуру): «Можно сказать, что режиссер пытается представить этот случай объективно, но в то же время трудно не почувствовать: его симпатии явным образом на стороне убийц (иначе он, вероятно, вообще не стал бы браться за эту тему). … Дело здесь, конечно же, не в проблеме социально-экономической неустроенности и терпящем крах желании героев стать успешными людьми, а именно в их внутренней трансформации, которая случается при таких кошмарных обстоятельствах» [Вирен, 2013, с.21]. И здесь нельзя не согласиться с Д.Г. Виреном: для авторского кинематографа Г. Круликевича было очень важно «участие, или даже соучастие зрителя в происходящем на экране. Возможно, главная цель фильмов режиссера — активизировать воображение зрителя. [Вирен, 2015, с. 35]. Чрезвычайно интересны размышления Д.Г. Вирена и о деконструкции соцреалистического канона в польском кино 1970–1980-х, когда «возникло пародийное направление, высмеивавшее характерные черты жизни при социализме» [Вирен, 2013, с.98]: «Рейс» (1970) и «Извините, здесь бьют?» (1976) Марека Пивовского. Например, размышляя о сатирическом, псевдодетективном характере фильма «Извините, здесь бьют?», Д.Г. Вирен, на мой взгляд, приводит весьма яркий пример того, как «игра с жанром постепенно уступает здесь место социально-психологической проблематике. На первый план в результате выходит то самое «моральное беспокойство», например, в эпизоде, когда один из главных героев — милиционер — произносит фразу: «Пойми ты, не существует единой этики для всех». Проблема, очень актуальная и сегодня, не правда ли?» [Вирен, 2013, с.98]. А Т.Н. Елисеева отдает, наконец, должное драме «Допрос» (1982) Ришарда Бугайского, отмечая, что он «нарушил в своей ленте общепринятое табу: создал документально достоверную, зловещую и натуралистическую картину функционирования аппарата органов безопасности и методов морального, физического и психологического уничтожения людей во время следствия в польских тюрьмах в конце 40-х — начале 50-х годов» [Елисеева, 2009, с.37]. Весьма доказательно пишет о влиянии польского кино, так и оставшегося «белым пятном» для рядовых советских зрителей, пишет Д.В. Горелов: например, «До свидания, до завтра» с Цибульским бранили на родине за легковесность — а из нее заимствована добрая половина городских манифестов новой России. Фильм в нашем прокате не был, но во ВГИКе показывался наверняка: ауканье полувлюбленных на замковых плитах и брусчатке без купюр ушли в «Мой младший брат» (1962, Александр Зархи), робкий-шуточный заход в костел и повсеместное ворчание старших — в «Я шагаю по Москве» (1963, Георгий Данелия), студенческий театр-пантомима — в «Не самый удачный день» (1966, Юрий Егоров)» [Горелов, 2011]. Русско-польские отношения на польском экране в зеркале российской кинокритикиПонятно, что строгий цензурный кодекс не позволял советским кинокритикам углубляться в рассуждения о том, какой образ России и русских создавался на польском экране. Исследование на эту тему появилось только в постсоветские времена… Так внимательный исследователь О.В. Рахаева убедительно пишет, что в польском кино 1960-х в целом обозначилась тенденция создания положительного образа русских, особенно в фильмах на военную тему: «Наиболее репрезентативными для раскрытия темы военного братства стали фильмы «Где генерал» («Gdzie jest generał», 1964, реж. Тадеуш Хмелевский) и многосерийный «Четыре танкиста и собака» («Czterej pancerni i pies», 1966, реж. Конрад Наленцкий). В фильме «Где генерал» впервые в военных контекстах звучит тема польско-русской любви, но в паре Маруси и Ожешко явно лидирует Маруся, а поляк выглядит этаким недотепой, за что фильм даже был подвергнут критике» [Рахаева, 2012, с.228]. После распада СССР и освобождения Польши от кремлевской зависимости отношение к русским и России в польском кино, естественно, изменилось. Например, О.В. Рахаева убеждена, что из фильма «Барышни и вдовы» (1991) Януша Заорского следует, что «русские грязны, вечно пьяны, брутальны и переполнены одним единственным желанием — обладать польками. … Снова, как в 1920-е, мы видим насилие над Матерью-Полькой. Не случайно захватчики представлены исключительно в мужской версии, как более или менее дикие мерзавцы» [Рахаева, 2012, с.230]. Рухнул и главный запрет социалистических времен, касавшийся отражения на экране советско-польской войны 1920 года. О.В. Разхаева отмечает, что в историях о том, как «орды большевиков угрожали свободной Польше: «Врата Европы» («Wrota Europy», 1999, реж. Ежи Вуйчик), «Ужас в Веселых Багнисках» («Horror w Wesołych Bagniskach», 1996, реж. Анджей Бараньский) ... по большому счету, принцип показа врагов не отошел далеко от межвоенных канонов: они дикие, жестокие, и даже если индивидуализированы (офицер во «Вратах Европы»), имеют все признаки враждебной массы» [Рахаева, 2012, с.231]. Справедливости ради отмечу, что в ключевом польском фильме на эту тему — «Варшавская битва 1920 года» (2011) Ежи Гоффмана эта схема не столь прямолинейна. Само собой, в своей трактовке польско-русских отношений современное кино Польши не могло обойти трагические события 1939 и последующих десяти-пятнадцати лет… Выделяя в этом ряду фильмы «Цинга» («Cynga», 1991, реж. Лешек Восевич), «Барышни и вдовы» («Panny i wdowy» Януша Заорского, 1991), «Все самое важное» («Wszystko co najważniejsze», 1992 Роберт Глиньского), «Полковник Квятковский» («Pułkownik Kwiatkowski», 1995 Казимежа Куцв), О.В. Рахаева отмечает, что «советские солдаты на польском экране все те же, что в 1920-е и 1930-е (возможно, чуть менее карикатурные), зато офицеры становятся в своей жестокости более изощренными («Барышни и вдовы», «Цинга»), физическое уничтожение противника — это для них уже слишком мало, им нужно сломать его психологически: подобный мотив характерен для польско-русской любовной истории в более позднем фильме — «Афоня и пчелы» («Afonia i pszczoły», 2008, реж. Ян Якуб Кольский)» [Рахаева, 2012, с.231]. Тема русских военных есть и в польско-чешской «Операции Дунай» («Operacja Dunaj», 2009) Яцека Гломбы, «где советские солдаты снова выглядят, как большевики в кино образца 1920-х. Они бессмысленно жестоки, дики и пьяны. Хотя и поляки не слишком идеализированы, все-таки остается ощущение, что авторы фильма хотели слегка обелить польское участие в оккупации Чехословакии. Заодно выясняется, что поляки и чехи отлично могут договориться, если у них есть общий противник — русские» Рахаева, 2012, с.235]. О.В. Рахаева четко и точно выделяет стереотипные образы русских в польском кино 1990-х — начала 2000-х: «выходцы из России — это дикие люди из дикой страны, тонущей в нищете; русские пытаются всеми правдами и неправдами добраться до Польши — перевалочного пункта по дороге на Запад — и здесь решать свои (преимущественно грязные) дела. Это контрабандисты, преступники, убийцы, бандиты и мафиози — персонажи фильма «Долг» («Dług», 1999, реж. Кшиштоф Краузе), которые после убийств расчленяют трупы, рассчитывая пустить следствие по ложному следу «русских счетов». Это проститутки, сутенеры — хотя как раз эту роль русские могут уступать полякам. … Кроме того, судьбы русских женщин в этих фильмах обычно почти полностью зависят от поляков (своеобразная символическая месть за исторические обиды). В этих фильмах Польша явственно маскулинизируется: в фильме «Операция Коза» («Operacja Koza», 2000, реж. Конрад Шолайский) посланница российских спецслужб (снова агент с Востока) прибывает в Польшу с заданием выкрасть молодого ученого (читай: Россия вынуждена красть нужные ей идеи в Польше), но, конечно, влюбляется в него, и вместе они выигрывают эту партию у спецслужб (очередная «обращенная» русская)» [Рахаева, 2012, с.232]. В самом деле, образы русских женщин показаны в польском кино 1990— х — 2000-х значительно мягче и теплее, чем образы мужчин: «Сауна» («Sauna», 1992) Филипа Байона, «V.I.P.» (1991) Юлиуша Махульского, «Дочери счастья» («Córy szczęścia», Польша-Венгрия-Германия, 1999) Марты Месарош, «Любовные истории» («Historie miłosne», 1997) Ежи Штура, «Маленькая Москва» («Mała Moskwa», 2008) Вальдемара Кшистека и др. Анализируя польские фильмы последних 15 лет, О.В. Рахаева [Рахаева, 2012, с.233] подмечает в польском кино и относительно новую тенденцию изображения русских — как мужественных и чуть загадочных персонажей: в фильмах «На край света» («Na koniec świata», 1999) Магдалены Лазаркевич, «Мастер» («Mistrz», 2005) Петра Тшаскальского и др. Так в фильме «Персона нон грата» Кшиштофа Занусси «мы можем найти мотив преданной российско-польской любви (российская жена молодого польского дипломата собирает на него компромат, чтобы удержаться при нем и в Польше) и дружбы: Олег (Никита Михалков) в молодости доносил на деятелей Солидарности, а теперь предает дружбу с Виктором и вырастает почти до метафоры современной России. Сам режиссер с удивлением говорил, что задумывал этот образ как отрицательный, но в исполнении Михалкова обаяние стирает все обозначенные режиссером границы» [Рахаева, 2012, с.234]. В целом же можно согласиться с выводами О.В. Рахаевой: польские фильмы «после 2005 года иные, чем в 1990-е. Мы можем сказать, что, плохих или хороших, русских теперь в польском кино рассматривают как отдельных людей, даже партнеров, а не как дикие орды, несущие смерть и позор» [Рахаева, 2012, с.234]. Польское кино: прогнозы на будущееПрогнозы, как хорошо известно, штука неблагодарная: они очень часто не сбываются. Вот написала, к примеру, В.С. Колодяжная, в 1974 году, что «все лучшее в области содержания и формы получило дальнейшее развитие в польском кино 60-х и начала 70-х годов. Вместе с тем было найдено и много нового. Когда польское киноискусство в целом освободилось от идейных шатаний, от неверия в человека, от экзистенциалистских тем одиночества и всевластия зла, начался новый плодотворный этап» [Колодяжная, 1974, с.47]. И как пальцем в небо попала: «идейные шатания» польских кинематографистов не только продолжились, но и привели в конце 1970-х к пику «кинематографа морального беспокойства». Разумеется, это и был «плодотворный этап» в развитии польского киноискусства, но, боюсь, совсем не такой, как он виделся стоящей на четких социалистических позициях Валентине Сергеевне. Не лучше в смысле трактовки тенденций польского кино выглядит сегодня и более свежий текст (1988 года) вышедший из-под пера одного из ныне самых известных российских кинокритиков либерального крыла — А.С. Плахова. Вот что всего за три года до распада СССР писал А.С. Плахов о поколении польской режиссуры, заявившем о себе в период, предшествовавший «Солидарности»: «Большинство из них вошло в кинематограф во второй половине 70-х — незадолго до того, как польское общество пережило экономический и политический кризис. Это не могло не отразиться на характере духовных пристрастий новой режиссерской смены, окрасив ее мироощущение тонами скепсиса и пессимизма. Вместе с тем — сейчас это можно утверждать уверенно — они в массе своей не пошли на идейный альянс с экстремистскими силами, желавшими ориентировать страну на Запад. Так называемые фильмы «под знаком нравственного беспокойства», в обилии появившиеся на польских экранах на рубеже 70-80-х годов, были направлены не на отрицание социализма как такового, а на критику его реально проявившихся искажений и недостатков» [Плахов, 1988, с.169-170]. Зато прогноз знатока польского кино М.М. Черненко, сделанный им в 1989 году, как оказалось, был очень точным: «Разумеется, прогнозы всегда сомнительны, особенно в далекой от стабильности политической и экономической ситуации Польши, но если рассчитывать на нормальный, эволюционный ход событий, то можно без особого труда предположить в будущем крутой поворот кинематографа к событиям недавней истории, к тем страницам военного и послевоенного бытия народа, которые находились под цензурным запретом. В первую очередь, можно ожидать появления кинематографической биографии «Солидарности», а также предистории этого движения — от рабочих протестов 1976 года в Радоме и Урсусе и далее, вглубь десятилетий — к событиям на Побережье в 1970 году, к трагедии Познани в 1956, к гражданской войне 1944-1948 гг. и массовым репрессиям... Во всяком случае, какова бы ни была конкретная тематика, вероятнее всего, польское кино в ближайшие годы снова станет кинематографом историческим, подобно тому как была кинематографом историческим «польская школа кино», принесшая Польше мировую славу на многих экранах мира» [Черненко, 1989]. Российская кинокритика о польском кинематографе: что дальше?Я насчитал около 60-ти работ, касающихся польского кино, опубликованных в СССР с 1959 по 1991 годы [Антонов, 1972; Бауман, 1981; Березницкий, 1971; Колодяжная, 1974; Лаврентьев, 1989; Маркулан, 1967; 1968; Михалкович, 1977; Молчанов, 1989; Муратов, 1973; 1976; 1978; Плахов, 1988; Рубанова, 1965; 1966; 1972; 1977; 1978; 1989; Рысакова, 1960; Соболев, 1965; 1966; 1967; 1970; 1979; Сухин, 1975; Фролова, 1976; Черненко, 1964; 1965; 1967; 1968; 1970; 1971; 1972; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1984; 1985; 1987; 1989; 1990; Чижиков, 1966; Юренев, 1959]. В постсоветские временя (с 1992 по 2016 год) я нашел о польском кино около сорока публикаций российских киноведов и кинокритиков [Вирен, 2013; 2015; Горелов, 2011; Елиссева, 1996; 2002; 2007; 2009; Задорожная, 2006; Кириллов, 2011; Паламарчук, Зубрицкая, 2007; Плахов, 1999; Рахаева, 2009; 2012; Рубанова, 2000; 2013; 2015; Филимонов, 2008; Черненко, 1992; 1996; 2000; 2001; 20012; 2005]. Вроде бы немало, но… свыше половины из них — небольшие статьи энциклопедического характера, принадлежащие перу Т.Н. Елисеевой. В более-менее массовой прессе статьей о польском кино вышло за последние четверть века очень мало… Конечно же, мною были учтены (и в советский, и в постсоветский период) в основном публикации столичных кинокритиков. Но если в социалистические времена в провинциальных газетах было принято публиковать рецензии на фильмы текущего репертуара (в том числе и польские), то в российской региональной прессе теперь это явление крайне редкое… Так что для того, чтобы перечислить сегодня российских кинокритиков, целенаправленно пишущих о польском кино, хватит, наверное пальцев одной руки: И.И. Рубанова, Т.Н. Елисеева, Д.Г. Вирен, О.В. Рахаева… Что ж, будем надеяться, что не числом, так умением… Александр Федоров Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-00014) в Таганрогском институте управления и экономики. Тема проекта: «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов». Впервые опубликовано в журнале: Федоров А.В. Польский кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики // Медиаобразование. 2016. № 2. Литература
© Федоров А. В., 2016 Категория: Статьи » Психология Другие новости по теме: --- Код для вставки на сайт или в блог: Код для вставки в форум (BBCode): Прямая ссылка на эту публикацию:
|
|