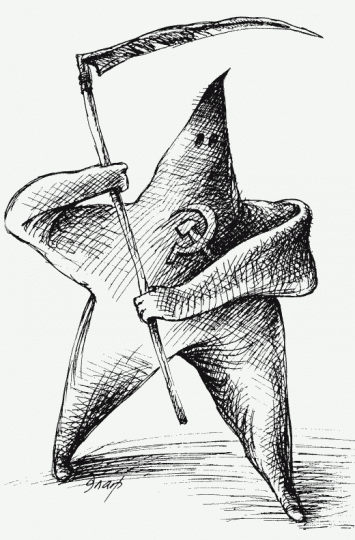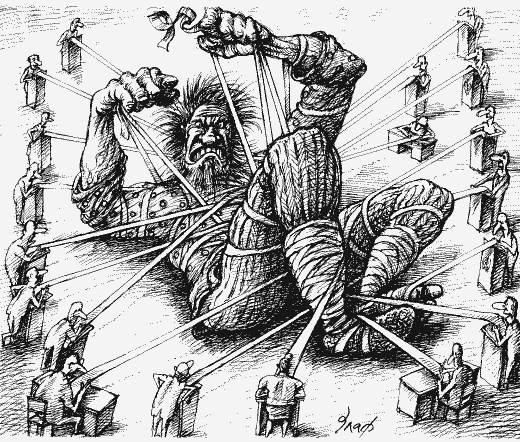|
|
Символ и трансформация. Уровень общества. ("Из жизни символов")Автор статьи: Кармадонов Олег Анатольевич
"Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае, его зовут иначе". Джон Харингтон (XVI век) На настоящий момент выделяют четыре основных подхода в исследовании социальных трансформаций: эволюционные модели, циклические, конфликтологические и функционалистские. Этот набор парадигм социального изменения остается, в принципе, относительно постоянным. Достаточно новым выглядит требование «индивидуализации» данных теорий, обращения внимания на знаковое измерение социальных трансформаций, акцентирование активной, творческой роли индивида в этих процессах. Петр Штомпка, например, в весьма артикулированной форме отмечает значение нематериальных факторов в социальном изменении: «Полное признание роли неосязаемого – верований, ценностей, мотиваций, устремлений, представлений – в процессах социального изменения становится возможным только тогда, когда социальная наука перемещается от перспектив историцизма или развития - к индивидуалистской ориентации» [1: 235]. В «символических» подходах к социальному изменению возникновение группы – носителя альтернативной символической модели мира, в принципе, соответствует видению, присущему остальным теоретическим фокусам. Будь это конфликт, дифференциация, или рационализация – в любом случае предполагается более или менее организованный вызов властвующей элите, и, в случае успеха, смена ее «невластвующей элитой» (В. Парето). В качестве условий такой смены Парето полагал неизбежную деградацию группы, находящейся у власти. «Они разлагаются, - писал итальянский мыслитель, - не только количественно. Загнивают они и качественно, в том смысле, что теряют свою силу и энергию, и утрачивают те характеристики, которые в свое время позволили им захватить власть и удерживать ее» [2: § 2054]. По словам американского антрополога Здислава Маха, группа, заинтересованная в изменении символической модели мира, поддерживаемой другими участниками социальной системы, использует именно символические формы для создания реальности, соответствующей желаемому положению вещей, - «Символы представляют новые идеи и ценности и комбинируют их внутри новых контекстов, наполняя эмоциями и создавая символическую реальность – их интерпретацию мира, которая, будучи принятой, становится частью этого мира, и, тем самым, основанием восприятия и действия. Именно таким образом символы становятся активными факторами в социальном изменении» [3: 51]. Подобным же образом данная проблема ставилась и Дэвидом Расмуссеном, который рассматривал символ в качестве «лингвистического агента для социально-политической трансформации», основным условием которой он считал, прежде всего, трансформацию сознания [4: 80]. Что, однако, заставляет определенную группу бросать вызов существующему порядку вещей? Любая смысловая трансформация, по моему убеждению, начинается с критического переосмысления существующих в данном социуме категорий очевидности (для советского периода это, например, «красные», «белые», «бог», «частная собственность», «революция», «гражданская война», «социализм», «капитализм», «мир» и «миру-мир», и т.д. В современной Америке категориями очевидности являются «гражданская война», «рабство», «Декларация независимости», «демократия», «коммунисты», «права человека», «11 сентября», и т.д.). На первом этапе, эти категории «неочевидны» только для носителей альтернативных символических моделей, чья задача-максимум заключается в распространении убеждения в данной «неочевидности» среди наиболее широких слоев населения. Главным условием успеха этого предприятия является, разумеется, фактор обладания властью. И здесь мы можем говорить о рациональной, или иррациональной «символической интериоризации». Первая имеет место тогда, когда группа – носитель альтернативного символического комплекса приобретает власть законным путем. О второй мы можем говорить тогда, когда такая группа приобретает власть с помощью насилия. В обоих случаях задача одна - массированная индукция своего символического свода, поскольку именно это является главным условием последующего удержания власти. Мы, однако, рассматриваем здесь рациональное и иррациональное действия в отношении не только обретения власти, что, в принципе, является довольно общим местом, но и в отношении ее утраты. Рационально утраченной может, очевидно, считаться власть, потерянная в результате «не-переизбрания», равно, как и в ходе революции. (Именно так – обретение власти в ходе революции является иррациональным, поскольку отрицает все нормы легислатуры, принятые в данном социуме, однако, потеря власти в ходе революции является рациональной, поскольку, как правило, выступает результатом достигшего своей критической массы комплекса противоречий, которые данная власть должна была разрешать, пока была властью. Таким образом, рациональность и иррациональность революции находится в зависимости от того или иного фокуса восприятия – на совершающую переворот группу, или на свергаемую власть). Иррационально же утраченной является власть, оставленная правящей элитой по доброй воле, то есть, без внешних или внутренних принуждений, не в результате глубокого социального, классового, этнического, или иного конфликта, не по причине непреодолимого системного кризиса, не в результате насильственных действий по отношению к этой власти, и не в ходе «имманентной трансформации». Если не считать крайне редкие случаи отречения от власти монархов (что, впрочем, как правило, не было все-таки «добровольным» актом, и не вело к смене политической системы), единственным примером такого рода в мировой истории является, на мой взгляд, советская «перестройка» 1985 – 1991 гг. Многими исследователями, как в России, так и за рубежом, из тех, кто пытается серьезно проанализировать советские «реформы», констатируется тот одновременно поразительный и очевидный факт, что крах СССР и вообще советской системы вовсе не был неким неизбежным событием, по крайней мере – в 80х – 90х гг. двадцатого века. Признается то, что советской власти всерьез не угрожали ни внешние, ни, тем более, внутренние враги. Известный социо-экономический кризис, переживавшийся советским строем с конца 70х годов, не являлся, в действительности, чем-то непреодолимым, национализм не выступал к началу «перестройки» действительно значимым фактором, наконец, с точки зрения основной массы населения, режим являлся вполне легитимным. «Недовольство» властью не выходило за приемлемые рамки, и не являлось чем-то исключительным для общественных отношений. В этих условиях советская система могла бы существовать, по крайней мере, еще весьма продолжительное время. Этого, однако, не случилось. Объяснения происшедшему крушению находят разнообразные, в целом же все они могут быть сгруппированы в двух основных кластерах причин: 1) относящихся к технологическим императивам, и 2) относящихся к категориям диверсии, или удачной «холодной войны». К первому ряду относится, например, М. Кастельс, который полагает, что главной причиной «жесточайшего кризиса была структурная неспособность этатизма и советского варианта индустриализма обеспечить переход к информационному обществу» [5: 438]. Ко второму кластеру относятся такие авторы, как А.А. Зиновьев, доказывающий, что главной причиной послужила удавшаяся масштабная психолого-идеологическая подрывная операция Запада, при которой «послужившая толчком к развязыванию кризиса, горбачевская политика перестройки сама стала главным источником кризиса и его самым сильным проявлением» [6: 452], что представляло собой, по мнению философа, «советскую контрреволюцию». Я не согласился бы ни с первым, ни со вторым подходом. Объяснения первого рода не выглядят достаточно убедительными, поскольку, фактически, не анализируют свершившееся, а обсуждают несвершившееся (то есть, парадоксальным образом обосновывают следствие прогнозируемой причиной – «советский строй рухнул, потому что он не выдержал бы…»), прямо нарушая как законы логики, так и внятной речи вообще. В середине 80х гг. прошлого века «сетевое общество» было не менее отдаленной и туманной перспективой, нежели и сейчас, поэтому, нельзя с большой уверенностью серьезно утверждать, что Советский Союз не смог бы выдержать гонку информатизации. Объяснения второго порядка («диверсия», «антисоветский проект») представляются мне, в свою очередь, главным образом, рационализацией произошедших иррациональных, по своей сути, событий. Замечу, что я нисколько не преуменьшаю фактор внешнего идеологического давления, сыгравшего, конечно же, свою роль. Более того, было бы вполне логично попытаться истолковать «холодную войну» в терминах знаковой активности, то есть, противостояния двух масштабных символических универсумов, в ходе которого символы одной стороны (нашей, к сожалению), подверглись элиминации со стороны символов другой, оказавшихся более привлекательными, значимыми, престижными, и т.д. для наших людей, в результате чего их символические комплексы подверглись эрозии, а сами они утратили твердые идентификационные характеристики, и, следовательно, реальную способность к символическому сопротивлению. В принципе, процессы такого рода имели место, однако, не носили все же определяющего характера. В этом и заключается в действительности вся нелепость и весь драматизм произошедшего – без всяких веских причин властвующая элита СССР, благодаря своим собственным действиям, перестала быть властвующей. Объяснить это событие иначе, как в терминах «иррационально утраченной власти» не представляется возможным. Вообще, иррациональность, по моему мнению, являлась неотъемлемым качеством как идеологии, так и практики коммунистической партии. Именно в этом смысле, функционирование советского общества было организовано, фактически, по принципу магии, которая, как известно, «стремилась достичь рациональных целей, воздействуя иррациональными методами на иррациональные силы» (Й. Лукач). Явное подобие обнаруживается и при сопоставлении онтологического содержания коммунистической идеологии с определением основной функции магии, которая, согласно Брониславу Малиновскому, заключается в том, чтобы «ритуализировать человеческий оптимизм, усиливать его веру в победу надежды над страхом». Уподобление советского государства магической системе представляется мне в этом смысле более оправданным, чем сравнение его с системой религиозной, хотя, общие черты, вне всякого сомнения, присутствуют. (Не случаен, с точки зрения иррациональности советской действительности и ее подобия магическим практикам, и культ личности, существовавший на протяжении всего советского периода, а не только в годы сталинизма. Вспомним, что и в магических, и в психотерапевтических процедурах роль колдуна, или терапевта - не статична. И в первом, и во втором случаях он, - с помощью переноса, - активный участник «избавительного процесса», в психоанализе - как сопереживающий, принявший на себя роль значимого другого («отца»), а в магии – как основной и непосредственный актор терапии, как правило, возглавляющий этот процесс, или, по крайней мере, являющийся медиатором между пользуемым и инфернальными силами. Очевидно, что советские руководители, в той или иной степени, совмещали в себе черты «отца», «вождя», «воителя», «жреца», «мага», «терапевта», и «мудреца», то есть, всех архетипически значимых для человеческого сознания и психики фигур). К.-Г. Юнг говорил о том, что «государство становится на место Бога – в этом отношении социалистические диктатуры являются религиями, а государственное рабство – род богослужения. Такое искажение, фальсификация религиозной функции вызывают, конечно, сомнения, но они тут же подавляются, чтобы избегнуть конфликта с господствующим устремлением к омассовлению» [7: 125]. То есть, Юнг так же отмечает иррациональную природу социалистического строя. Вместе с тем, великий швейцарец упускает момент добровольного подчинения принуждению, конформизм управляемых выглядит в его понимании именно насильственным, сохраняемым перед лицом прямых угроз, в то время как всегда обнаруживало себя и встречное движение, желание доверять этой власти, и подчиняться ей. Несомненно, что и в терапии, и в магической практике значительную роль играет личная вера пользуемого и пользователя, или, другими словами, интенсивность переживания образов и представлений. Именно поэтому, вера являлась непременным требованием коммунистической идеологии, причем, ее должны были демонстрировать не только собственно адепты данной идеологии, то есть, члены партии, но и рядовые граждане. Вера в необычайные силы, истинность, позитивность, и эффективность магии коммунизма внушалась, поэтому, на всем протяжении социализации советского человека, начиная с «волшебных сказок» о добрых и всемогущих коммунистических «дедушках», и в ходе нескольких ритуалов посвящения, через которые обязательно должен был пройти «истинно верующий» (прием в октябрята, пионеры, комсомол, партию). Серж Московичи постоянно подчеркивает значение этого фактора для легитимизации власти вообще. «Независимо от причин подчинения, - говорит французский психолог, - оно, в конце концов, тождественно доверию…, нуждающемуся в постоянстве. Если согласие возникает из обсуждения и обмена аргументами, оно не может опираться на них. Ибо оно нуждалось бы тогда в постоянном испытании своего влияния, дабы сохранить сплоченность членов группы и в любой момент получать их поддержку. Вера в согласие, в консенсус между управляемыми и правящими, ее признание, напротив, опирается как раз на отсутствие дискуссии. Другими словами, ее особенность в том, что она основана на запрете, молчаливом, но вездесущем запрете на критику…Внутренняя вера, дополняющая в различных пропорциях внешнее насилие, - вот формула легитимности» [8: 283-285]. Очевидно, что и вера и запрет на критику были представлены в советском обществе в самом полном, и, возможно, наиболее экзальтированном и требовательном виде. Наряду с этим, собственно иррациональными, строго говоря, являлись сами принципиальные основания данной идеологии, и, прежде всего, взгляд на человеческую природу, или «модель человека», существовавшая в советской символической системе. У человеческого существа были отняты этой моделью все сущностные человеческие характеристики, включающие как добродетели, так и пороки, как сильные стороны, так и слабости. В результате, сам человек исчез, уступив место «строителю коммунизма», снабженному своим «моральным кодексом», то есть, комплексом приписанных ему черт, характеристик, и мотиваций. Собственно процедуры и функционирование советского общества являлись, вместе с тем, вполне рациональными – люди строили, учили, лечили, собирали хлеб, растили детей, зарабатывали деньги, совершали научные открытия, путешествовали, и т.д. Рациональность повседневных практик советского общества все в большей степени соответствовала общему мировому процессу рационализации (допуская, что теория М. Вебера верна), чем декларированной правящей партией иррациональной картине мира и человека, которая, в итоге, столкнулась в конце двадцатого века не только с вызовом постиндустриализма, но и с вызовом прогрессирующей рационализации давно «расколдованного» внешнего мира и уже «недостаточно околдованного» мира внутреннего. Отношения «пользователя» и «пользуемого» в какой-то момент приобрели в большей степени инерционный, нежели реальный характер, когда с одной стороны продолжала изображаться «терапия», а с другой – «исцеление». Произошло то, что Московичи, вслед за Вебером, называет «рутинизацией харизмы», под которым понимается переход от аномального общества к обществу нормальному, вернувшемуся к повседневным жизненным приоритетам, то есть, обществу преобладающей рациональности. «По мере удаления от исходного события, - говорит психолог, - индивиды пробуждаются от этого всеобщего сна и разрывают околдовавшие их эмоциональные связи.…Осуществлять коллективное действие, а потом прийти к решению, что оно потеряло свой смысл – таков жизненный цикл господства, который ведет его от харизмы к рациональности…Очевидно, что в конце концов, сила заурядного вытесняет магию исключительного» [8: 307]. В этом смысле, известная градация поколений советских руководителей на «фанатиков», «прагматиков», и «циников» приобретает, в общем, далеко не шуточный смысл. «Фанатики» – это те, кто действительно верил и в цели и в средства; «прагматики» верили больше в средства, чем в цели; наконец, «циники» не верили, фактически, ни в цели, ни в средства, продолжая, однако, поддерживать видимость такой веры. Тем самым, сложилась ситуация, когда иррациональность советской власти была поколеблена в своих основаниях, но, в то же время, рациональность не могла восторжествовать по причине иррациональной инерции, причем, как со стороны власти, так и со стороны общества, не демонстрировавшего, в общем, высокого накала критического дискурса. Такой дискурс принимал, с моей точки зрения, три основные формы: диссидентства, анекдотов, и «нонконформистского» искусства. Диссидентство осталось крайне незначительными, по своему общественному резонансу, вспышками правозащитной активности. Политические анекдоты, в этом смысле, были значительно более распространенным и действенным феноменом, критическое содержание которого, впрочем, исчерпывалось легким «журением» существующих порядков и власти. Крайне интересный феномен представляет собой нонконформистское искусство советского периода, прежде всего – в связи со спецификой, так сказать, критического фокуса. Если абстрактные, сюрреалистские направления искусства Запада в качестве главного пафоса своего художественного творчества определяли критику «рационализма», некой мертвящей «упорядоченности» существования, которые они обнаруживали в своем обществе, то советские абстракционисты и концептуалисты «критиковали» именно «иррационализм» советского общества.
Другими словами, западное искусство через иррационализацию пыталось бороться с рационализацией, в то время как советское искусство боролось с помощью иррационального с иррациональным же. Именно в этом заключается, на мой взгляд, главное отличие Бюнюэля, Дали, Магрита, Гринуэя, Годара и пр. от Комара и Меламеда, Рубина, Целкова, Тарковского, Сокурова, и пр.
В этих условиях, как представляется, менять нужно было не цели (что плохого, в конце концов, в идее всеобщего благоденствия?), а средства, и, прежде всего – экономические регуляторы общественной жизни, на основании измененной (рационализированной) «модели человека». Советское руководство, однако, оказалось способным только к иррациональным действиям – политическому самоубийству. Таким образом, если собственно процессы трансформации советского общества могут быть, вообще говоря, рассматриваемы с точки зрения любой теоретической парадигмы, то для анализа их характера и содержания наиболее подходящими, как представляется, являются подходы, фокусирующиеся на символической составляющей социальных трансформаций, а также – на аномальных, девиантных проявлениях человеческой активности. Прежде всего, речь идет об идеях Эмиля Дюркгейма относительно феномена самоубийства – в принципе иррационального действия. «Принимается ли смерть только как печальное, но неизбежное условие той цели, к которой субъект стремится, или же он ищет ее ради нее самой, - пишет Дюркгейм, - в обоих случаях он отказывается от существования, и различные способы расчета с жизнью могут быть рассматриваемы только как разновидности одного и того же класса явлений» [9: 12]. Очевидно, что в рассматриваемом нами случае имело место, скорее, второе, то есть, сознательный поиск смерти. В противном случае мы должны говорить о крайней умственной неполноценности, или даже полном идиотизме советского руководства, что, все-таки, не соответствует действительности. Важными представляются и замечания Дюркгейма о том, что самоубийство и убийство демонстрируют определенную общность, - «Психологическая организация, предрасполагающая к тому и другому, одна и та же: две эти склонности, в сущности, составляют разновидности одного и того же темперамента» [9: 334]. Последний характеризуется «ослаблением организма, ставящим человека в неблагоприятные для борьбы условия. Убийца и самоубийца – оба являются типами вырождения и бессилия; одинаково неспособные играть полезную роль в обществе, они в силу этого обречены на поражение» [9: 335]. В зависимости от условий социальной среды, согласно Дюркгейму, эта специфичная предрасположенность к насилию принимает форму то убийства, то самоубийства. Причем, первое имеет место тогда, когда насилие не встречает реального противодействия в социальной среде, а второе – когда насилие, «сдерживаемое общественным сознанием, обращается к своему источнику, и жертвой его становится субъект, которому оно обязано своим происхождением» [9: 335]. Вопрос о том, обладала ли чертами убийцы КПСС, является уже риторическим. Сами истоки российского сознательного протеста, определенные теоретические постулаты марксизма, и вся последующая практика этой партии существовали под знаком множественных и нескончаемых убийств, оправдываемых, обосновываемых, а потому – еще более ужасающих. Интенсивность уничтожения собственного народа переживала, разумеется, периодические флуктуации, не была некой постоянной величиной в своем количественном выражении, являясь, однако, константной в своем выражении принципиальном, или, так сказать, «качественном». Соответственно, если положения излагаемые Дюркгеймом верны, самоубийство также не должно было являться для этой партии чем-то из ряда вон выходящим. Я думаю, что убийство и самоубийство представляют собой две последовательные стадии существования КПСС. Возможна и периодизация советской власти, которая включает периоды насилия-убийства, и насилия-самоубийства. В первом периоде выделяются две основные фазы: 1917-1953гг., и 1953-1985гг., где начальная фаза отличается высокой интенсивностью убийства, а вторая – постепенным уменьшением этого показателя. Период насилия-самоубийства, уже по определению, не может быть продолжительным, и охватывает отрезок с 1985 по 1991 годы. При взгляде на отечественную историю, очевидно, что период убийства действительно характеризуется отсутствием (после Гражданской войны) какого-то реального сопротивления в обществе, серьезного противодействия государственному насилию, что, помимо прочего, связано, как представляется, с состоянием харизмы коммунистической партии того времени, и, соответственно, с уровнем и интенсивностью веры людей в свое руководство, и принципы им декларируемые. Другими словами, народ и партия были «едины» в оценке правомочности насилия, обе стороны считали его законным и естественным. Период самоубийства КПСС, напротив, характеризуется сдерживающим фактором общественного сознания, что было обусловлено как относительно низкой интенсивностью убийства в СССР последней четверти двадцатого века, так и, тесно связанными с этим, «рутинизацией харизмы» (Вебер), и рационализацией общественных связей, практик и институтов. Характеристика компартии, как обладающей одновременно чертами убийцы и самоубийцы, вызывает аналогии и с такими категориями как садизм и мазохизм. Как представляется, убийство обладает какими-то общими, родовыми чертами с садизмом, и самоубийство, соответственно, с мазохизмом. Как минимум, первая пара объединена допущением возможности причинения страдания другому, и вторая – допущением возможности причинения страдания себе. Примечательно, что Эрих Фромм и Майкл Маккоби следующим образом описывали признаки мазохизма: «такая личность имеет с другими отношения, однако теряет, или никогда не обретает собственную независимость; она избегает опасности одиночества, становясь частью другой личности, или «проглотив» ее, или будучи «проглоченной» ею. Мазохизм – это попытка избавиться от индивидуальной самости, убежать от свободы, и обрести безопасность через присоединение к другой личности. Формы, которые принимает такая зависимость, многосложны. Она может рационализироваться как жертва, долг, или любовь, особенно, когда культурные образцы оправдывают такой вид рационализации» [10: 73-74]. В то же время, импульс к «поглощению» является активной формой садизма, согласно исследователям, и проявляется во всех формах рационализации, таких как любовь, сверхзащищенность, «обоснованное» доминирование, «обоснованная» месть, и т.д. Отметим также, в этой связи, что в изложении своего знаменитого исследования характерологических типов в Мексике, Фромм и Маккоби однозначно приписывали садомазохистские наклонности типу личности, обозначенному ими как «авторитарный», причем, обнаруживали зависимость между социоэкономическим функционированием социального класса и уровнем проявленности садистских и мазохистских компонентов. Наиболее продуктивное функционирование, по мнению авторов, снижает этот уровень, который, соответственно, повышается тогда, когда класс «утрачивает свою продуктивность, и постепенно теряет свое экономическое и социальное значение» [10: 81]. Представляются достаточно очевидными и логичными аналогии этих признаков и черт коммунистической партии, как политической организации, правящего класса и экономического субъекта. Прежде всего, такие как: стремление поглотить и быть поглощенным; отказ от индивидуальной свободы и самости; крайняя насыщенность партийного вокабуляра и пропагандистской риторики категориями «жертва», «долг», и «любовь» (к партии, естественно). Весьма обстоятельно обосновывались компартией и собственное доминирование («диктатура пролетариата»), и месть по отношению ко всем, посмевшим иметь другие взгляды на эти претензии. Что же касается «авторитарности» этой организации, она не нуждается в дополнительной аргументации. Социоэкономическая зависимость интенсивности садомазохистских проявлений, связана, в свою очередь с описанными выше социальными характеристиками периодов убийства и самоубийства – садизм проявляется в ситуации отсутствия общественного сопротивления, в то время как мазохизм набирает силу в период возросшего контроля со стороны рационализированного общественного сознания, и под влиянием усиливающихся сомнений по поводу своей состоятельности как правящего и хозяйствующего субъекта. Таким образом, время «перестройки» является, на мой взгляд, периодом политического самоубийства КПСС, сопровождавшегося и мазохистскими проявлениями, то есть, периодом в высшей степени иррациональной активности власти, от которой напрасно ждали как раз обратного - действий по обретению большей рациональности, соответствующей задачам дальнейшего развития общества. Этот суицидально-мазохистский период хорошо исследуется с помощью методологии символического анализа. Как уже говорилось, символическая трансформация в обществе всегда начинается с содержательного изменения категорий очевидности, являющихся базовыми смысловыми конструктами социального дискурса. Эти категории «расставляют все по местам» в умопостигаемом пространстве, объясняя человеку мир вообще и его место в нем. Категории очевидности носят амбициозный характер, имеют значение именно для этого общества, именно в этот исторический период; они приписывают конкретное символическое содержание конкретным феноменам, фактам и событиям, и предписывают совершенно определенную реакцию на это содержание. Наряду с этим, в отличие от «структур жизненного мира» (Шютц), категории очевидности обладают исторически оперативным характером, подвержены трансформациям и всегда контекстуально обусловлены. Более того, именно амбициозный характер категорий очевидности говорит нам об их неоднозначности и проблематичности. То рвение, с которым они внедряются в массовое сознание, само по себе указывает на их целенаправленно сформированное, и, видимо, небезупречное смысловое содержание. Тем не менее, они остаются достаточно эффективными инструментами символической власти и символического насилия, представляя собой своего рода основные «материки» и «острова» существующей в данном обществе когнитивной карты мира. Комплекс категорий формировал вполне определенные образы социального мира, прошлого, настоящего, и, отчасти, будущего, легитимизируя советскую власть. Образы дореволюционного прошлого были однозначно негативны, и образы советского прошлого и настоящего были однозначно позитивно окрашены. С началом суицидально-мазохистского периода в 1985 г. смысловое содержание категорий очевидности начало трансформироваться, причем, с все возрастающими стремительностью и охватом. Это был не просто процесс смены знаков с плюсов на минусы, и наоборот, - символическая трансформация основывалась, как правило, на архивной и историографической аргументации, обосновывалась «вновь открывшимися» фактами и свидетельствами. Немалое значение сыграла персонификация изменяющихся категорий, так сказать, «биографический метод» в символической трансформации – издание дневниковых записей, описание судьбы (трагической) конкретной семьи или человека, публикация личных фотографий. Меняли свои значения основные исторические события и конкретные исторические деятели. Характерна постепенная смена фокуса – в самом начале речь шла о большевиках, «настоящих ленинцах», павших жертвами сталинского террора, затем повели разговор уже о самих этих «жертвах», в ходе которого выяснилось, что они, собственно, ничуть не лучше своих палачей, потом взгляд переместился на «святое» – отцов-основателей и руководителей партии, в оценке которых неожиданно большое место заняли подробные описания их физических недостатков и сомнительных болезней, и, наконец, обратили критично-уничтожительное внимание на феномен, сделавший возможным появление тех, других, и третьих – собственно коммунистическую идеологию. После этого самих коммунистов в жертвы уже зачисляли неохотно, страдательной стороной стали все их классовые и идеологические противники. Царская Россия из мрачной и унылой постепенно превращалась в пряничную и пасторальную, Советский же Союз совершал встречное движение, приобретая черты «империи зла» во внутреннем исполнении, и «страны дураков». Постепенно, таким образом, изменялось значение базовых идеологических и экзистенциальных постулатов советского общества. Символическая трансформация осуществлялась, главным образом, через средства массовой информации, что вполне естественно. Что выглядело не вполне естественным, это то, что все СМИ являлись государственными, то есть, партийными, по своей сути. Таким образом, КПСС разоблачала сама себя, и напоминала в этой ситуации «Голого короля» – персонаж известной сказки Г.Х. Андерсена, с той лишь небольшой поправкой, что наивного мальчика-правдолюбца не было. Коммунистический «король» сам громогласно заявлял о собственной наготе, делая это поистине с большевистским энтузиазмом, с битьем себя в грудь, посыпанием главы пеплом, и выдиранием волос с оной главы, да простят мне такой натурализм. Средства массовой информации в той же мере формируют общественное сознание, в какой и отражают его (хотя точное соотношение установить пока никому не удалось), в этом смысле позволительно говорить о СМИ как валидной источниковой базе в ходе исследования социального дискурса. Наряду с этим, источником эмпирического анализа символического дискурса «перестройки» (и вообще любого социального изменения, или процесса) могут стать и не собственно печатные материалы. Такие, например, как архитектура, монументальное творчество, музыка, кино, литература, изобразительное искусство. Одним из многообещающих исследовательских источников является политическая карикатура. Художник всегда, несмотря на всю свою рефлективность, отражает настроения, мысли, ориентации и мотивации той эпохи и того общества, в котором он живет, участвуя в формировании общественных представлений (Парсонс), тем более, если он занимается политкарикатурой – жанром, требующим оперативности, и не допускающим особо длительного осмысления образов и сюжетов. Таким образом, доминировавшие в «перестройке» суицидально-мазохистские настроения правящей группы с неизбежностью должны были найти и находили свое отражение и в «осязаемых» формах социального дискурса, в частности – в политической карикатуре, вне зависимости от желания или осознания этого факта самими творцами. Символами садомазохизма по Э. Фромму и М. Маккоби являются: «лишенные (deprived) фигуры», «бремя», «угнетение / унижение» (сорвавшаяся с высоты фигура, обрыв, человек в лежачем или низком положении, рабские позы), «наказание», «покорение / подчинение», и, — являющиеся также и символами некрофилической деструктивности, — «увечье», «искажение», «изношенность», «больное», «разрушенное», «мертвое» [10: 282]. Даже самый поверхностный анализ позволяет сделать вывод о том, что весь символический комплекс клинического мазохизма представлен в перестроечной карикатуре обильно и в полном ассортименте (см.: http://www.zlatkovsky.ru/picture/politica).
Нельзя сказать, что антикоммунистическая пропаганда коммунистической власти сразу же увенчалась успехом, - даже в условиях давно рутинизированной харизмы люди не склонны, по большому счету, легко расставаться со своими категориями очевидности, воззрениями, смыслами внешнего и внутреннего жизненных измерений. Более того, на обыденном уровне ещё какое-то время сохранялась рациональность, представление о том, что эти трансформации – не навсегда, или, другими словами, убеждение в том, что «нормальная» власть не может добровольно отказаться от своего властного статуса. Именно этому обязаны своим появлением известные тогда вирши: «Товарищ, верь, пройдёт она, Так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность Припомнит наши имена!» Гласность так и не прошла, а госбезопасность сосредоточилась на другом. Но тогда потребовалось несколько лет, прежде чем труды коммунистического антикоммунизма принесли свои плоды. Произошло это примерно в 1988 – 1989 гг., когда советская власть убедила, наконец, своих граждан в собственной порочности, ложности, преступности, алчности, зверской натуре, и т.п. Несмотря на то, что в ходе этой трансформации уничтожались, фактически, смыслы существования целых социальных общностей, люди, в перестроечном угаре, в целом присоединились к этой облаве – партийные картинно рвали свои членские билеты и вспоминали прошлые «гонения», которые они мужественно вынесли, беспартийные говорили, что они давно «знали» про все эти пороки, потому, дескать, и не вступали в партию, чем навлекали на себя «гонения», которые они мужественно вынесли. Обладавшие наиболее острым номенклатурным чутьем партийные функционеры делали наиболее громкие и радикальные заявления и совершали наиболее нелепые выходки. Одним словом, период насилия-самоубийства успешно подходил к своей кульминации, КПСС доказала, наконец, народам СССР абсолютную нелегитимность своего правления, уничтожив остатки их «веры», и отказавшись от «запрета на критику», являющегося, вообще говоря, совершенно естественным в любом общественном устройстве. «Внедренный в каждое сознание, запрет выхолащивает сомнения и глушит сердечные перебои, - говорит Московичи, - Ибо власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, уже не власть» [8: 287]. Кульминацией «перестройки», или заключительным, решительным актом самоубийства КПСС явился, разумеется, путч 19 августа 1991 года. К тому моменту у партии не было не только «рутинизированной харизмы», а никакой харизмы вообще, также, как не осталось и никакой «веры» в обществе. Идеологическая диверсия Запада, модернизационные вызовы, и т.д. имели, конечно же, место, однако, повторю – не имели реального значения и силы для того, чтобы низвергнуть такое как никогда мощное образование. Его можно было разрушить только изнутри, что и сделала КПСС, фактически, укравшая славу и победу диссидентов, чем шокировала их, да и весь остальной мир в очередной раз. Еще раз подчеркну – я не склонен соглашаться с мнением, что это саморазрушение было сознательным актом предательства, - оно являлось таковым фактически, но не целерационально. Я же полагаю, что это было, по своему характеру, «естественное» действие патологического образования, построенного на насилии, и допускавшего его как в отношении других, так и в отношении себя (но только со своей же стороны!). Другими словами, советский строй пал не в силу символической экспансии или интервенции, а в силу символического самоубийства. Коммунистическое правление было установлено иррациональным способом, и таким же способом и окончилось. «Вера» народа, а, следовательно, легитимность власти были разрушены именно через символы, поскольку сами являются символическими феноменами. Но импульс трансформации имел своим источником и своей целью одно и тоже образование – партийное тело государственной власти СССР. Трагедией являлось то, что это образование представляло собой не только неразрывную часть общества в целом, но, фактически, его становой хребет. Таким образом, последний акт насилия КПСС – самоубийство – явился, фактически, и актом последнего убийства, жертвами которого стали строй и страна. Жертвами стали и люди, почти в одночасье лишившиеся Родины, убеждений, ценностей, профессиональных и жизненных смыслов, что не могло не сказаться на их общем психологическом состоянии и душевном благополучии. Об этом – в следующем материале.
Литература: 1. Sztompka, P. The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell Publishers, 1993. (Русское издание: Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996). 2. Pareto, V. Mind and Society: A Treatise on General Sociology. New York: Dover, 1963. 3. Mach, Z. Symbols, Conflict, and Identity: Essays in Political Anthropology. Albany: State University of New York Press, 1993. 4. Rasmussen, D.M. Symbol and Interpretation. The Hague: Martinus Nijhoff, 1974. 5. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: Изд. ВШЭ, 2000. 6. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М.: Центрполиграф, 2000. 7. Юнг К.Г. Настоящее и будущее. – Аналитическая психология: прошлое и настоящее. М.: Мартис, 1995. 8. Московичи С. Машина, творящая богов. М.: "Центр психологии и психотерапии", 1998. 9. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. 10. Fromm, E., Maccoby, M. Social Character in a Mexican Village. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1996. Категория: СТАТЬИ » Статьи по психологии Другие новости по теме: --- Код для вставки на сайт или в блог: Код для вставки в форум (BBCode): Прямая ссылка на эту публикацию:
|
|